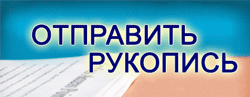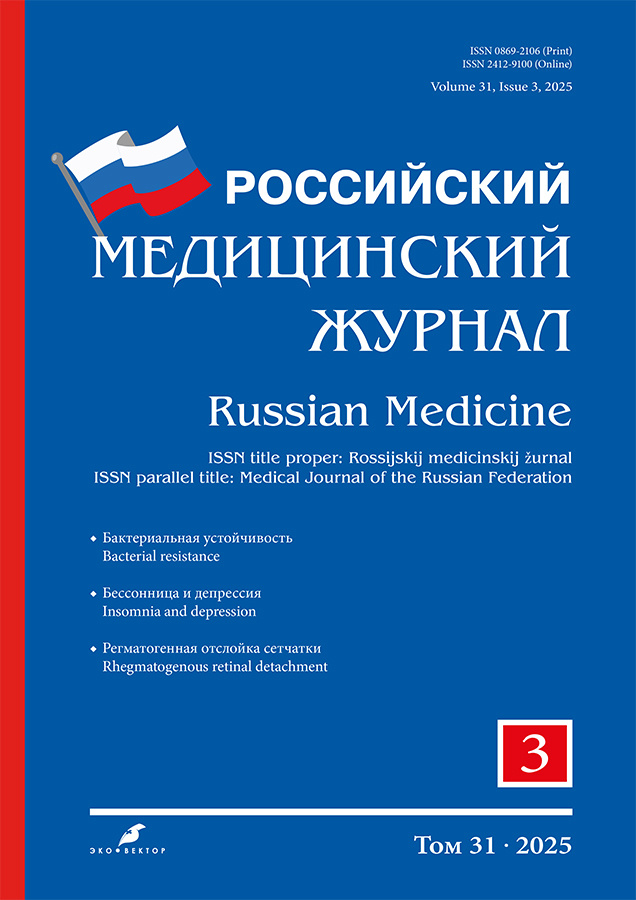Нарушение сна. От бессонницы к депрессии. От животных к человеку
- Авторы: Янковский В.С.1, Борозденко Д.А.1, Негребецкий В.В.1
-
Учреждения:
- Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
- Выпуск: Том 31, № 3 (2025)
- Страницы: 263-270
- Раздел: Обзоры
- Статья получена: 16.10.2024
- Статья одобрена: 15.04.2025
- Статья опубликована: 11.06.2025
- URL: https://medjrf.com/0869-2106/article/view/637141
- DOI: https://doi.org/10.17816/medjrf637141
- EDN: https://elibrary.ru/RLSTIF
- ID: 637141
Цитировать
Аннотация
В обзоре представлены данные о физиологии сна, патофизиологических основах его нарушений и об эпидемиологии данного заболевания. Рассмотрены основные гипотезы формирования депрессивных расстройств: моноаминовая, воспалительная, нейроэндокринная. Приведены актуальные данные клинических исследований и результаты метаанализов, установлены ключевые факторы влияния депривации сна на соматические и психические функции человека. По данным мониторинга сна с использованием электроэнцефалографии показана общая патофизиологическая связь нарушения быстрой фазы сна у пациентов с депрессивными расстройствами и нарушениями сна. Обсуждается роль депривации сна как одного из экспериментальных и неоднозначных методов терапии депрессивных расстройств.
Представлены и классифицированы основные доклинические модели патологии на лабораторных животных: тотальной и парадоксальной депривации сна. Проанализированы примеры поведенческих паттернов животных в различных поведенческих установках (водный лабиринт Морриса, Y-образный лабиринт). Показаны изменения экспрессии генов на фоне моделирования заболевания и изменения нейрометаболитов после использования различных методик депривации сна. Обсуждены перспективы дальнейших доклинических исследований в области патологии сна, выявлены ещё не изученные области (в частности, терапевтическое влияние депривации сна на различные модели депрессии).
Ключевые слова
Полный текст
Введение
Сон является незаменимой частью жизни высших животных, в том числе человека, и состоит из нескольких фаз: быстрой фазы (rapid eye movement — REM) и медленной фазы (non-rapid eye movement — NREM). REM-фаза сна характеризуется высокоамплитудными тета-волнами на электроэнцефалограмме гиппокампа; бета-волнами, идентичными стадии бодрствования; активным подавлением работы скелетной мускулатуры; прерывистыми непроизвольными сокращениями скелетных мышц; колебаниями температуры тела; быстрыми хаотичными движениями глаз и увеличением частоты сердечных сокращений и дыхания [1]. NREM-фаза сна состоит из трёх стадий: N1 — лёгкая стадия, является самой кратковременной, с сохранением тонуса скелетной мускулатуры; N2 — более глубокая стадия, во время которой наблюдаются сонные веретёна — всплески когерентной активности головного мозга; N3 — глубокая стадия, со снижением тонуса скелетных мышц, частоты сердечных сокращений и дыхания [2].
Регуляция сна осуществляется циркадными ритмами, которые контролируются центральными часами (супрахиазматическим ядром гипоталамуса) и периферическими часами, расположенными в тканях всего организма. Это ядро связано с сетчаткой глаза и получает сигналы напрямую от окружающей среды, за счёт чего может влиять на метаболизм в периферических тканях в зависимости от цикла день–ночь. Однако некоторые ткани способны к автономной работе независимо от супрахиазматического ядра гипоталамуса. Совместно циркадная система способствует ритмичности работы всего организма [3].
Влияние депривации сна на организм человека
Депривацией сна принято называть его полное отсутствие или недостаточную продолжительность, что может быть как осознанным выбором, так и результатом заболевания. 30% взрослых людей в Соединённых Штатах Америки сообщают о недостаточном количестве сна, а 40% страдают от непроизвольного засыпания днём. Подобные тенденции наблюдаются и в европейской популяции: по данным G.A. Kerkhof и соавт., до 42% респондентов жаловались на недостаток сна [4].
Основным методом визуализации нарушений сна является электроэнцефалография (ЭЭГ). С её помощью были показаны изменения после частичной депривации сна в течение нескольких дней: стадии N1 и N2 NREM-фазы сна были уменьшены по длительности, также была сокращена длительность REM-фазы, в то время как глубокая стадия (N3) не изменялась. Причём даже после двух суток нормального сна изменения на электроэнцефалограмме сохранялись [5]. Нарушения длительности фаз и/или их последовательности являются терапевтическими мишенями при разных формах бессонницы.
Депривация сна и психоэмоциональное состояние человека
Депривация сна влияет на различные аспекты состояния человека. Исследование на студентах медицинских институтов выявило, что 37,8% испытуемых имели низкие значения сонливости и 8,7% — средние и высокие, что коррелировало с качеством жизни, восприятием образовательного материала, симптомами депрессии и тревоги [6]. H.A. Seoane и соавт. провели метаанализ, в котором выявили корреляцию между академическими успехами студентов и такими параметрами, как качество сна и дневная сонливость, но не продолжительность сна [7]. Кроме того, нарушения сна приводят к изменениям в эмоциональном состоянии человека. C.C. Tomaso и соавт. показали, что депривация сна способствует появлению у людей отрицательных эмоций и снижает хорошее настроение [8].
Связь депривации сна с депрессивным расстройством
Депрессивное расстройство: общая информация
Депрессия — распространённое ментальное заболевание, от которого страдает около 5% взрослого населения. Оно включает в себя подавленное настроение, потерю удовольствия и интереса к различным видам активностей. Другими симптомами депрессии являются низкая концентрация внимания, ощущение отчаяния относительно будущего, суицидальные мысли, нарушения сна (сонливость и бессонница). В настоящей работе будет использована информация, относящаяся к большому депрессивному расстройству (БДР) по нозологической системе Соединённых Штатов Америки, что эквивалентно рекуррентному депрессивному расстройству (F33 по МКБ-10).
Одной из гипотез развития БДР считается нарушение регуляции врождённой и адаптивной иммунных систем, приводящее к системному воспалению. Описано повышение концентрации цитокинов: интерлейкинов (ИЛ) ИЛ-6, ИЛ-10, ИЛ-13, ИЛ-18, ИЛ-12, фактора некроза опухоли альфа — и белков острой фазы воспаления в плазме крови пациентов с диагностированным БДР [9]. Можно предположить, что провоспалительные факторы способны оказывать нейротоксический эффект на нейроны головного мозга, и это приводит к нарушениям эмоциональной регуляции (контуры гиппокампа, миндалевидного тела, передней поясной коры) [10].
Кроме воспалительной теории депрессии, существует и моноаминовая теория развития заболевания. Гипотеза свидетельствует о том, что при заболевании происходит нарушение регуляции концентраций норадреналина, серотонина и дофамина в разных структурах головного мозга. Моноаминовая теория подтверждается фармакотерапией, направленной на моноаминергическую систему. В качестве стандартной антидепрессивной терапии используют препараты, нарушающие обратный захват серотонина и дофамина [11].
Существует теория, объясняющая развитие депрессии нарушением гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальной оси. Эта ось регулирует различные физиологические процессы в организме и является главным связующим звеном между центральной нервной системой и периферическими органами при стрессе. За инициацию работы всей оси отвечает кортикотропин-рилизинг гормон, действующий на переднюю долю гипофиза. Далее в гипофизе вырабатывается адренокортикотропный гормон, в свою очередь регулирующий выработку гормонов коры надпочечников, в особенности пучковой зоны, где происходят синтез и секреция глюкокортикоидов — кортизола, кортизона и кортикостерона [12]. У людей с депрессивным расстройством наблюдается гиперактивация оси, что приводит к повышенной концентрации глюкокортикоидов в плазме крови. Однако в метаанализе [13], в котором сравнивали концентрацию кортизола у больных БДР и здоровых людей, значительных межгрупповых отличий не обнаружено. Исследования с использованием животных подтверждают подобные изменения. X. Li и соавт. использовали модель хронического непредсказуемого лёгкого стресса для моделирования депрессивно-подобного состояния у крыс линии Wistar. Выявлены повышенные концентрации кортикостерона и адренокортикотропного гормона в плазме крови модельных животных [14]. В другом исследовании выполняли хроническое введение кортикостерона мышам, что привело к развитию депрессивно-подобного состояния у животных [15].
Депривация сна и депрессивное расстройство
Депривация сна негативно влияет на психоэмоциональное состояние человека и может вызывать депрессивное расстройство. Характерна и обратная ситуация: при депрессивном расстройстве у пациентов часто наблюдаются проблемы со сном. Наглядно связи между патофизиологией нарушений сна и депрессивных расстройств показаны на рис. 1. У детей в возрасте от 11 до 17 лет установлено, что сон меньше 6 ч ежедневно коррелирует с наличием БДР, а также увеличивает риск развития данного заболевания в дальнейшем [16]. Исследование зависимости между длительностью сна и повышенным риском развития депрессии показало интересные результаты. На выборке более 25 тыс. человек выявлена зависимость между длительностью сна и риском развития депрессии. График зависимости имеет U-образную форму, т. е. риск развития депрессии повышается не только при депривации сна, но и при увеличении его длительности [17].
Рис. 1. Патофизиология связи депрессивного расстройства и депривации сна. ГГА — гипоталамо-гипофизарно-адренокортикальная ось, АКТГ — адренокортикотропный гормон, ИЛ — интерлейкин, ФНО-α — фактор некроза опухоли альфа.
Несмотря на различные доказательство того, что депривация сна ухудшает эмоциональное состояние человека и является одним из факторов риска развития БДР, на данный момент существует методика использования депривации сна в качестве терапии пациентов с депрессивным расстройством. Отличительной чертой депрессии является нарушение REM-фазы сна — уменьшение её длительности и увеличение плотности [18]. Реже у пациентов присутствуют нарушения и NREM-фаз сна. E.C. Landsness и соавт. провели исследование, в котором пациентов с диагностированным БДР подвергали терапевтической депривации сна, заключающейся в пробуждениях в NREM-фазе сна в течение одной ночи. Данная терапевтическая методика приводит к статистически значимому снижению депрессивных симптомов у пациентов с БДР [19]. Кроме того, B. Hu и соавт. в метаанализе определили, что депривация сна имеет значительный антидепрессивный эффект у пациентов с психоэмоциональной депрессией [20]. В другой работе с использованием депривации сна в течение одного дня было показано, что лишение сна имеет негативный эффект для здоровых добровольцев, в то время как для 43% испытуемых с БДР депривация сна оказала положительный антидепрессивный эффект [21]. Данный метод терапии неоднозначен и в настоящее время активно изучается. Так, в 2023 году J.R. Goldschmied и соавт. провели исследование с использованием депривации сна с полным контролем над испытуемыми и не выявили антидепрессивного эффекта лишения сна, поскольку только 6% участников имели улучшения после процедуры [22].
Моделирование депривации сна на животных
Для глубокого понимания эффектов депривации сна и их детального изучения используют мышей, крыс и обезьян. На данный момент существует два типа депривации сна у животных — тотальная депривация сна (ТДС) и парадоксальная депривация сна (ПДС). После моделирования на животных проводят поведенческие тесты с целью выявления нарушений когнитивных, локомоторных функций, изменения их общего состояния, а также биохимических изменений, используя различные методы. Результаты определения количества экспериментальных работ по каждому методу моделирования представлены в табл. 1. Для определения количества статей был использован сервис PubMed National Library of Medicine. Поиск производили по следующим ключевым словам: «handling method sleep deprivation», «disc over water sleep deprivation», «flowerpot technique sleep deprivation», «modified multiple platform method sleep deprivation».
Таблица 1. Моделирование депривации сна
Вид депривации сна | Метод | Год создания модели | Количество статей |
Тотальная | Хендлинга | 1987 | 66 |
Диска над водой | 1983 | — | |
Парадоксальная | Классических платформ | 1965 | 33 |
Множественных платформ | 2000 | 117 | |
Сетки, подвешенной над водой | 2003 | 10 |
Тотальная депривация сна
Методы ТДС используются для лишения животных как медленной, так и быстрой фазы сна [23]. В настоящее время существует два метода моделирования ТДС:
- Метод диска над водой. Используют диск из стеклопластика, который расположен над водой в ёмкости глубиной 2–3 см и посередине разделён пополам перегородкой. Пара животных находится на диске и подключена к аппарату ЭЭГ. В течение всего времени нахождения в установке регистрируется биоэлектрическая активность головного мозга животных. Переход грызунов в состояние сна активирует вращение диска в случайном направлении. Вращение останавливается только после 6 с бодрствования животных. Данный метод позволяет оценивать биоэлектрическую активность головного мозга на протяжении всего моделирования и точно депривировать сон у грызунов, основываясь на данных ЭЭГ [24, 25].
- Метод хендлинга. В течение всего времени депривации сна грызуны находятся в домашних клетках под наблюдением сотрудников, которые следят за их поведением. В случае перехода животных в состояние сна (оценка производится по поведенческим изменениям, например, по закрытым глазам и иммобилизации) осуществляется лёгкое постукивание по клетке или же касание животного, пока грызун не проснётся. Описанная методика проста в исполнении, но отмечаются сложность в валидации и невозможность точной оценки депривации сна, так как у грызунов есть несколько поведенческих паттернов, близких к засыпанию: замирания, стереотипии. Кроме того, данная методика полностью зависит от исполнителя, а значит, вероятность ошибки в эксперименте выше относительно вышеописанного метода диска над водой [23, 26].
Парадоксальная депривация сна
Парадоксальной депривацией называется полное лишение REM-фазы сна с сохранением других фаз. Методы ПДС в настоящее время используют чаще, чем ТДС:
- Метод классических платформ. Животные содержатся в индивидуальных контейнерах, наполненных водой, на платформах. Как описано выше, при переходе в REM-фазу сна происходит потеря мышечного тонуса. Животное падает в воду и просыпается. Подобная методика полностью лишает испытуемых REM-фазы сна, но может приводить и к частичной потере NREM-фазы [27]. Кроме того, из-за одиночного содержания животных описанный метод способствует дополнительному стрессу, что приводит к сложностям валидации. В настоящее время методика не используется.
- Метод множественных платформ. Принцип метода совпадает с описанной выше методикой: животные находятся на платформах, при переходе в REM-фазу сна падают в воду и просыпаются. Однако в данной модификации животные содержатся группами, а значит, исключается дополнительный стресс [28].
- Метод сетки, подвешенной над водой. Принцип работы совпадает с уже описанными методами ПДС, однако в данном случае животные находятся на стержнях диаметром 3 мм. Стержни расположены на сетке из нержавеющей стали, которая подвешена в пластиковой клетке, наполненной водой ниже сетки на 1 см. При засыпании и падении грызунов со стержня на сетку они касаются воды и просыпаются [29, 30].
С целью исследования депривации сна на животных чаще всего используется ПДС, а точнее — метод множественных платформ. С его помощью показано, что депривация сна сроком до 14 дней приводит к высокому стрессу у животных. Эффект значительно усиливается в случае лишения REM-фазы на 21-й день — наблюдаются тревога и дегенеративные эффекты в области гиппокампа. Кроме того, в области гиппокампа происходит снижение экспрессии генов NR1 (Grin1) и NR2a (Grin2a), отвечающих за экспрессию субъединиц рецептора к глутамату (N-метил-D-аспартат рецептор) [30]. ПДС приводит к нарушению памяти у животных. D. Chen и соавт. [31] кроме метода множественных платформ использовали Y-образный лабиринт и лабиринт Морриса. В Y-образном лабиринте у животных с депривацией сна количество ошибочных реакций было значительно выше. В водном лабиринте Морриса также было значительно увеличено время нахождения безопасной платформы относительно контроля. Кроме того, при помощи метода высокоэффективной жидкостной хроматографии выявлено снижение концентрации дофамина в тканях гиппокампа после депривации сна. В другом исследовании установлено статистически значимое повышение концентрации серотонина в области дорсального гиппокампа, в то время как концентрации дофамина и норадреналина не были статистически значимо повышены [32].
Обсуждение
С увеличением скорости жизни, объёмов информации, общей урбанизации нарушения сна в различных формах, несомненно, будут новым вызовом XXI века, причём для врачей многих специальностей. Этиология нарушений сна включает в себя и эндокринные нарушения, и воспалительный процесс, и стрессорные реакции. Показаны также генетические механизмы бессонницы [33]. Очень интересна связь депрессивных расстройств с нарушениями сна: в некоторых типах депрессий наряду со эмоциональным фоном пациенты жалуются на патологическую сонливость, в других (депрессия с ажитацией) — на бессонницу. Исследователями показано, что нарушения сна являются фактором, способствующим развитию тревоги и депрессивных состояний, однако остаётся невыясненным, какие именно патологические механизмы за это ответственны. Понимание этих механизмов может помочь в вопросах этиологии депрессивных состояний. В настоящее время существуют три различные гипотезы развития депрессии: моноаминовая теория, нейровоспалительная и нейроэндокринная. Исследователи показали, что при нарушениях сна имеет место дисбаланс моноаминов [34]. Действительно, у пациентов с бессонницей применяют методики терапии с антидепрессантами, влияющими на обратный нейрональный захват моноаминов.
У людей с рестрикцией сна развиваются эндокринные нарушения: самый распространённый эффект при смене часовых поясов — снижение синтеза мелатонина, повышение тревоги и стресса и, как следствие, концентрации кортизола. Такие проявления характерны и для пациентов с депрессией.
Снижение иммунного ответа у людей с депривацией сна говорит о вовлечении воспалительного компонента [35]. Данная область в настоящее время активно изучается.
С другой стороны, такая методика терапии депрессии, как однодневная депривация сна, показала свою эффективность. В зависимости от типа депрессии депривация сна может восстанавливать дисбаланс моноаминов или снижать проявления воспалительных реакций.
Для ответов на эти фундаментальные вопросы необходимо использование лабораторных животных, а также различных моделей депривации сна и классических моделей депрессивных состояний. Как видно из табл. 1, моделям парадоксальной депривации сна уже более 20 лет, однако они не теряют своей актуальности. Животные после моделирования ПДС показывают депрессивно-подобное поведение [36], что является прямым этиологическим фактором развития депрессии.
Интересно, что исследователи практически не используют фармакологические модели нарушения сна, например глюкокортикоидную или тиреотоксическую, но в клинической практике такие пациенты встречаются часто. Это может быть связано с некоторой «грубостью» моделей, но определённые механизмы можно изучать и на них. Кроме того, в литературе не описана терапия депривацией сна именно на животных. Такие исследования были бы очень интересными: сравнить терапевтический эффект однодневной депривации сна после разных моделей депрессивного состояния (хронического непредсказуемого лёгкого стресса, липополисахаридной модели воспаления, выученной беспомощности).
Необходимо чаще использовать электрофизиологический инструментарий, в частности проводить ЭЭГ-мониторинг у животных в моделях как депривации сна, так и депрессивных расстройств, для чёткого выявления нарушений фаз и длительности сна.
Заключение
Представленные в обзоре данные подтверждают актуальность исследований нарушений сна как в клинической практике, так и на животных моделях. Показана тесная клиническая, этиологическая и патофизиологическая связь между нарушениями сна и депрессивными расстройствами.
Дополнительная информация
Вклад авторов. В.С. Янковский — проведение исследования, курирование данных; Д.А. Борозденко — написание черновика рукописи; Вад.В. Негребецкий — научное руководство, написание рукописи — рецензирование и редактирование. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Этическая экспертиза. Неприменимо.
Источники финансирования. Исследование и публикация проведены в рамках государственного задания Российскому национальному исследовательскому медицинскому университету имени Н.И. Пирогова на 2024–2027 гг. (№ государственной регистрации 121051700257-3).
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы использовались ранее опубликованные сведения, так как работа является обзором существующих методик по данной проблематике. В ходе работы была создана оригинальная схема патофизиологических связей нарушения сна и депрессивных расстройств (рис. 1).
Доступ к данным. Неприменимо (статья является описательным обзором литературы).
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей работы технологии генеративного искусственного интеллекта не использовались.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали член редакционной коллегии, член редакционного совета и научный редактор издания.
Об авторах
Владислав Сергеевич Янковский
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Email: vld.s.yan567@gmail.com
ORCID iD: 0009-0002-3337-9048
SPIN-код: 1883-6337
Россия, Москва
Денис Андреевич Борозденко
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Автор, ответственный за переписку.
Email: borozdenko@phystech.edu
ORCID iD: 0000-0002-6797-9722
SPIN-код: 7351-6661
MD
Россия, МоскваВадим Витальевич Негребецкий
Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова
Email: nmr_rsmu@yahoo.com
ORCID iD: 0000-0001-6852-8942
SPIN-код: 3658-3258
д-р хим. наук
Россия, МоскваСписок литературы
- Patel AK, Reddy V, Shumway KR, Araujo JF. Physiology, sleep stages. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2025. Available from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK526132/
- Payne JD, Schacter DL, Propper RE, et al. The role of sleep in false memory formation. Neurobiol Learn Mem. 2009;92(3):327–334. doi: 10.1016/j.nlm.2009.03.007
- Rosenwasser AM, Turek FW. Neurobiology of circadian rhythm regulation. Sleep Med Clin. 2015;10(4):403–412. doi: 10.1016/j.jsmc.2015.08.003
- Kerkhof GA. Epidemiology of sleep and sleep disorders in The Netherlands. Sleep Med. 2017;30:229–239. doi: 10.1016/j.sleep.2016.09.015
- Brunner DP, Dijk DJ, Borbély AA. Repeated partial sleep deprivation progressively changes in EEG during sleep and wakefulness. Sleep. 1993;16(2):100–113. doi: 10.1093/sleep/16.2.100
- Perotta B, Arantes-Costa FM, Enns SC, et al. Sleepiness, sleep deprivation, quality of life, mental symptoms and perception of academic environment in medical students. BMC Med Educ. 2021;21(1):111. doi: 10.1186/s12909-021-02544-8 EDN: MZPZXO
- Seoane HA, Moschetto L, Orliacq F, et al. Sleep disruption in medicine students and its relationship with impaired academic performance: A systematic review and meta-analysis. Sleep Med Rev. 2020;53:101333. doi: 10.1016/j.smrv.2020.101333 EDN: GIHDJX
- Tomaso CC, Johnson AB, Nelson TD. The effect of sleep deprivation and restriction on mood, emotion, and emotion regulation: three meta-analyses in one. Sleep. 2021;44(6):zsaa289. doi: 10.1093/sleep/zsaa289 EDN: IHZIGD
- Köhler CA, Freitas TH, Maes M, et al. Peripheral cytokine and chemokine alterations in depression: a meta-analysis of 82 studies. Acta Psychiatr Scand. 2017;135(5):373–387. doi: 10.1111/acps.12698
- Kim YK, Won E. The influence of stress on neuroinflammation and alterations in brain structure and function in major depressive disorder. Behav Brain Res. 2017;329:6–11. doi: 10.1016/j.bbr.2017.04.020
- Mulinari S. Monoamine theories of depression: historical impact on biomedical research. J Hist Neurosci. 2012;21(4):366–392. doi: 10.1080/0964704X.2011.623917
- Spencer RL, Deak T. A users guide to HPA axis research. Physiol Behav. 2017;178:43–65. doi: 10.1016/j.physbeh.2016.11.014
- Zajkowska Z, Gullett N, Walsh A, et al. Cortisol and development of depression in adolescence and young adulthood — a systematic review and meta-analysis. Psychoneuroendocrinology. 2022;136:105625. doi: 10.1016/j.psyneuen.2021.105625 EDN: NRVQQV
- Li X, Wu T, Yu Z, et al. Apocynum venetum leaf extract reverses depressive-like behaviors in chronically stressed rats by inhibiting oxidative stress and apoptosis. Biomed Pharmacother. 2018;100:394–406. doi: 10.1016/j.biopha.2018.01.137
- Kv A, Madhana RM, Js IC, et al. Antidepressant activity of vorinostat is associated with amelioration of oxidative stress and inflammation in a corticosterone-induced chronic stress model in mice. Behav Brain Res. 2018;344:73–84. doi: 10.1016/j.bbr.2018.02.009
- Roberts RE, Duong HT. The prospective association between sleep deprivation and depression among adolescents. Sleep. 2014;37(2):239–244. doi: 10.5665/sleep.3388
- Dong L, Xie Y, Zou X. Association between sleep duration and depression in US adults: A cross-sectional study. J Affect Disord. 2022;296:183–188. doi: 10.1016/j.jad.2021.09.075 EDN: GKCGSZ
- Crișan CA, Milhem Z, Stretea R, et al. A narrative review on REM sleep deprivation: a promising non-pharmaceutical alternative for treating endogenous depression. J Pers Med. 2023;13(2):306. doi: 10.3390/jpm13020306 EDN: PZUDFJ
- Landsness EC, Goldstein MR, Peterson MJ, et al. Antidepressant effects of selective slow wave sleep deprivation in major depression: a high-density EEG investigation. J Psychiatr Res. 2011;45(8):1019–1026. doi: 10.1016/j.jpsychires.2011.02.003
- Hu B, Liu C, Mou T, et al. Meta-analysis of sleep deprivation effects on patients with depression. Front Psychiatry. 2021;12:783091. doi: 10.3389/fpsyt.2021.783091 EDN: KYWCNT
- Chai Y, Gehrman P, Yu M, et al. Enhanced amygdala-cingulate connectivity associates with better mood in both healthy and depressive individuals after sleep deprivation. Proc Natl Acad Sci U S A. 2023;120(26):e2214505120. doi: 10.1073/pnas.2214505120
- Goldschmied JR, Boland E, Palermo E, et al. Antidepressant effects of acute sleep deprivation are reduced in highly controlled environments. J Affect Disord. 2023;340:412–419. doi: 10.1016/j.jad.2023.07.116 EDN: ZOYSPV
- Berro LF, Santos R, Hollais AW, et al. Acute total sleep deprivation potentiates cocaine-induced hyperlocomotion in mice. Neurosci Lett. 2014;579:130–133. doi: 10.1016/j.neulet.2014.07.028
- Fenzl T, Romanowski CP, Flachskamm C, et al. Fully automated sleep deprivation in mice as a tool in sleep research. J Neurosci Methods. 2007;166(2):229–235. Erratum in: J Neurosci Methods. 2008;170(1):179. doi: 10.1016/j.jneumeth.2007.07.007
- Lopez-Rodriguez F, Kim J, Poland RE. Total sleep deprivation decreases immobility in the forced-swim test. Neuropsychopharmacology. 2004;29(6):1105–1111. doi: 10.1038/sj.npp.1300406
- Lemons A, Saré RM, Beebe Smith C. Chronic sleep deprivation in mouse pups by means of gentle handling. J Vis Exp. 2018;(140):58150. doi: 10.3791/58150
- Youngblood BD, Zhou J, Smagin GN, et al. Sleep deprivation by the «flower pot» technique and spatial reference memory. Physiol Behav. 1997;61(2):249–256. doi: 10.1016/s0031-9384(96)00363-0
- Han C, Li F, Ma J, et al. Distinct behavioral and brain changes after different durations of the modified multiple platform method on rats: An animal model of central fatigue. PLoS One. 2017;12(5):e0176850. doi: 10.1371/journal.pone.0176850
- Chanana P, Kumar A. GABA-BZD receptor modulating mechanism of panax quinquefolius against 72-h sleep deprivation induced anxiety like behavior: possible roles of oxidative stress, mitochondrial dysfunction and neuroinflammation. Front Neurosci. 2016;10:84. doi: 10.3389/fnins.2016.00084
- Kumar A, Singh A. Possible involvement of GABAergic mechanism in protective effect of melatonin against sleep deprivation-induced behaviour modification and oxidative damage in mice. Fundam Clin Pharmacol. 2009;23(4):439–448. doi: 10.1111/j.1472-8206.2009.00737.x
- Chen D, Zhang Y, Wang C, et al. Modulation of hippocampal dopamine and synapse-related proteins by electroacupuncture improves memory deficit caused by sleep deprivation. Acupunct Med. 2020;38(5):343–351. doi: 10.1177/0964528420902147 EDN: KOSRRW
- da Silva Rocha-Lopes J, Machado RB, Suchecki D. Chronic REM sleep restriction in juvenile male rats induces anxiety-like behavior and alters monoamine systems in the amygdala and hippocampus. Mol Neurobiol. 2018;55(4):2884–2896. doi: 10.1007/s12035-017-0541-3 EDN: YEIASD
- Jansen PR, Watanabe K, Stringer S, et al. Genome-wide analysis of insomnia in 1,331,010 individuals identifies new risk loci and functional pathways. Nat Genet. 2019;51(3):394–403. doi: 10.1038/s41588-018-0333-3 EDN: KRPIJM
- Wang Z, Chen L, Zhang L, Wang X. Paradoxical sleep deprivation modulates depressive-like behaviors by regulating the MAOA levels in the amygdala and hippocampus. Brain Res. 2017;1664:17–24. doi: 10.1016/j.brainres.2017.03.022
- Rico-Rosillo MG, Vega-Robledo GB. Sleep and immune system. Rev Alerg Mex. 2018;65(2):160–170. doi: 10.29262/ram.v65i2.359
- Gonzalez-Castañeda RE, Galvez-Contreras AY, Martínez-Quezada CJ, et al. Sex-related effects of sleep deprivation on depressive- and anxiety-like behaviors in mice. Exp Anim. 2016;65(1):97–107. doi: 10.1538/expanim.15-0054 EDN: WUEMCT
Дополнительные файлы