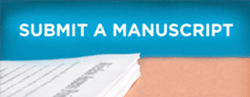Deterioration of chronic heart failure due to lead-associated tricuspid regurgitation: a review
- Authors: Kotlyarevskaya E.I.1, Sadrutdinov R.A.2, Dadashova E.F.2, Baymukanov A.M.3, Katanaev A.R.2, Snitsar A.V.2, Misikov Z.F.2, Gendlin G.E.1
-
Affiliations:
- The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
- City Clinical Hospital No. 24, Moscow
- City Clinical Hospital named after V.M. Buyanov
- Issue: Vol 31, No 5 (2025)
- Pages: 483-492
- Section: Reviews
- Submitted: 06.07.2025
- Accepted: 28.07.2025
- Published: 23.09.2025
- URL: https://medjrf.com/0869-2106/article/view/686586
- DOI: https://doi.org/10.17816/medjrf686586
- EDN: https://elibrary.ru/XVOKQK
- ID: 686586
Cite item
Abstract
Implantable intracardiac devices, including permanent pacemakers, cardioverter-defibrillators, and cardiac resynchronization therapy systems, have become firmly established in clinical practice and demonstrated efficacy in improving prognosis in patients with bradyarrhythmias, high risk of sudden cardiac death, and chronic heart failure. However, with the increasing number of implantations, late complications are attracting more attention, particularly tricuspid regurgitation associated with implanted intracardiac leads.
It has been shown that lead-associated tricuspid regurgitation may be linked to worsening heart failure symptoms, increased hospitalization rates, and reduced survival. Nevertheless, the pathophysiologic mechanisms of this condition, its clinical course, and diagnostic approaches remain insufficiently standardized, and current clinical guidelines lack clear management algorithms. According to published data, the prevalence of tricuspid regurgitation after lead implantation ranges from 7% to 39%, reflecting heterogeneity across reports and the absence of unified diagnostic criteria. This considerably complicates assessment of the true prevalence and clinical significance of this complication. An additional challenge is the choice of treatment strategy, especially when deciding on transvenous lead extraction or surgical correction.
Thus, an individualized and multidisciplinary approach is required for each patient, and further investigations are needed to develop consistent clinical recommendations.
Full Text
Введение
Имплантируемые внутрисердечные устройства, включая постоянные кардиостимуляторы, кардиовертерыдефибрилляторы и системы сердечной ресинхронизирующей терапии, прочно вошли в клиническую практику и доказали свою эффективность в улучшении прогноза у пациентов с брадиаритмиями, высоким риском внезапной сердечной смерти и хронической сердечной недостаточностью. Однако с ростом числа имплантаций также увеличивается количество поздних осложнений. В данном обзоре рассмотрена трикуспидальная регургитация (ТР), ассоциированная с введёнными внутрисердечными электродами.
Распространённость электрод-ассоциированной трикуспидальной регургитации
Распространённость ТР, связанной с имплантацией внутрисердечных устройств, по данным различных исследований, составляет от 7 до 39% [1]. Такие различия обусловлены гетерогенностью методов визуализации, диагностических критериев и сроков наблюдения. Ранняя диагностика ТР часто опирается на 2D-трансторакальную эхокардиографию (эхоКГ), характеризующуюся ограниченной точностью: например, полное прохождение электрода через трикуспидальный клапан (ТК) визуализируется лишь в 15% случаев, следовательно, истинная распространённость электрод-ассоциированной ТР может быть недооценена [1].
Согласно одному из крупнейших проспективных исследований (более 35 000 эхокардиограмм), значимая ТР выявлялась в 6% случаев, из которых 66,5% были связаны с внутрисердечными электродами [2]. По данным систематического обзора R. Tatum и соавт., ухудшение ТР после имплантации происходит у 20% пациентов, а умеренная или тяжёлая ТР выявляется в среднем у 41% пациентов уже в течение первого года после имплантации устройства [3]. В ретроспективном анализе S. Offen и соавт. (около 18 800 пациентов) частота умеренной или тяжёлой ТР составляла 23,8% у пациентов с устройствами против 7,7% без них [4]. В исследовании C.M. Van De Heyning и соавт., включившем 290 пациентов, показано, что в течение первого года после имплантации устройств ТР усугубилась как минимум на одну степень почти у половины пациентов (49,3%), при этом распространённость ТР средней и тяжёлой степени через 1 год после имплантации достигала 5% [5].
Патофизиология и факторы риска
Ассоциированная с имплантируемыми устройствами ТР включает разнообразные патофизиологические механизмы и всё чаще рассматривается как отдельная этиологическая категория, требующая специфического подхода. Основные механизмы развития ТР условно делятся на три группы: имплантационные, механические и стимуляционные [6].
Взаимодействие электрода с анатомическими структурами ТК начинается уже на этапе имплантации. При проведении электрода через трикуспидальное кольцо и фиксации в правом желудочке (ПЖ) возможна травматизация клапанного аппарата. Различные техники имплантации (прямая, пролабирующая, свободного падения) могут по-разному влиять на риск повреждения створок, однако достоверных сравнительных данных пока недостаточно [6, 7].
После установки устройства начинается фиброзное врастание электрода. Уже через 4–5 дней формируются фиброзные сращения, а в последующем — плотная фиксация к створкам или субвальвулярному аппарату. Это может ограничить подвижность створок и повысить риск осложнений при экстракции электрода, таких как авульсия створки (отрыв части или всей створки) или разрыв хорд, что способно существенно усугубить степень ТР [8].
Наиболее изученным патогенетическим механизмом развития ТР при наличии имплантированного устройства является механическое взаимодействие электрода с анатомическими структурами ТК. По данным хирургических и посмертных исследований, электроды могут вызывать следующие типы повреждений: импинджмент (давление на створку и нарушение её подвижности), адгезия (слипание/ фиксация электрода к створке), перфорация или разрыв створки, запутывание в хордальном или папиллярном аппарате, авульсия створки при экстракции электрода [9].
По данным хирургических наблюдений, у пациентов с тяжёлой ТР, обусловленной установкой электродов, в 39% случаев отмечался импинджмент, в 34% — адгезия, в 17% — перфорация створки, в 10% — застревание в субвальвулярных структурах. Чаще страдает септальная створка, поскольку она наиболее близко расположена к типичной траектории электрода в полости ПЖ, реже — задняя и передняя створки [10].
Классифицировать электроды по степени их вовлечённости в патологический процесс позволяет 3D-эхоКГ. Наиболее опасным считается расположение, при котором электрод вовлекается в тело створки, что нарушает коаптацию и ассоциировано с большей степенью ТР. Напротив, комиссуральное или центральное положение электрода характеризуется меньшей вероятностью значимой регургитации, так как створки сохраняют подвижность и коаптацию даже при его наличии. Описан также феномен «подвижной адгезии», когда электрод как бы «прилипает» к створке, двигается с ней синхронно, но ограничивает её систолическую экскурсию [9].
Стимуляционные механизмы связаны с развитием электромеханической диссинхронии, особенно при апикальной стимуляции. Механизм развития диссинхронии при такой стимуляции схож с процессом, который происходит при блокаде левой ножки пучка Гиса: электрический импульс распространяется не через систему Гиса–Пуркинье, а медленно через миокард, начиная с ПЖ и достигая левого желудочка с задержкой. Это приводит к межжелудочковой и внутрижелудочковой диссинхронии, нарушению работы папиллярных мышц, геометрическому ремоделированию и в конечном счёте — к нарушению коаптации створок клапана [11]. При длительной стимуляции может развиться бивентрикулярная сердечная недостаточность, прогрессирование ТР и лёгочная гипертензия.
Несмотря на распространённость ТР, данные о взаимосвязи между процентом стимуляции и степенью регургитации остаются противоречивыми. Некоторые исследования не подтверждают чёткой зависимости, указывая на то, что ключевым фактором остаётся именно геометрическая перестройка ПЖ, вызванная локализацией электрода, а не бремя стимуляции как таковое [12–14].
Вопрос о том, могут ли клинические эхоКГ-параметры надёжно предсказать развитие электрод-ассоциированной ТР, остаётся открытым, поскольку результаты исследований также противоречивы. В одном из крупных ретроспективных одноцентровых исследований показано, что наибольшую прогностическую значимость имели следующие переменные: возраст, пониженный индекс массы тела, повышенная частота сердечных сокращений, анамнез хирургических вмешательств на митральном клапане, выраженная митральная регургитация, повышенное систолическое давление в лёгочной артерии (≥37 мм рт. ст.), а также дилатация ПЖ [15]. Однако в другом ретроспективном исследовании с аналогичным дизайном только площадь правого предсердия и систолическое давление в ПЖ оставались статистически значимыми после поправки на сопутствующие факторы [14].
Важно также учитывать сопутствующие состояния, способствующие прогрессированию ТР независимо от наличия внутрисердечного устройства: постоянная форма фибрилляции предсердий, прекапиллярная и посткапиллярная лёгочная гипертензия, дилатация правых отделов сердца, а также предшествующие вмешательства на клапанах левых камер сердца [6].
Клиническая картина, естественное течение и прогноз
Клинические проявления ТР, связанной с имплантацией внутрисердечных электродов, варьируют от бессимптомного течения до выраженной правожелудочковой недостаточности. Умеренная ТР часто долго остаётся незамеченной и выявляется как случайная находка при эхоКГ. Однако по мере прогрессирования регургитации развиваются типичные симптомы правожелудочковой недостаточности: утомляемость, набухание шейных вен, гепатомегалия, асцит, периферические отёки. Среди пациентов с тяжёлой ТР, которым потребовалось хирургическое лечение, около 50% обращались с выраженной симптоматикой именно правожелудочковой недостаточности [10].
Развитие ТР может происходить как в ранние сроки после имплантации устройства (в течение первого месяца), так и отсроченно — в течение 6–12 мес. и позже. У многих пациентов признаки правожелудочковой дисфункции формируются спустя месяцы или годы после имплантации устройства, особенно при постепенном увеличении объёма регургитации или наличии сопутствующих факторов — фибрилляции предсердий, лёгочной гипертензии, диссинхронии ПЖ [16, 17].
Наличие ТР ассоциировано с худшими долгосрочными исходами, включая следующие:
- повышенную частоту госпитализаций по поводу хронической сердечной недостаточности;
- необходимость хирургического вмешательства на ТК или апгрейда системы стимуляции для проведения сердечной ресинхронизирующей терапии;
- снижение общей выживаемости [18].
Даже умеренная ТР ассоциирована с неблагоприятными исходами. Уже на ранних стадиях заболевания у таких пациентов могут выявляться расширение кольца ТК и дилатация правого предсердия, что подтверждает необходимость раннего выявления и эхоКГ-мониторинга для своевременной диагностики и хирургического вмешательства [19].
По данным крупнейшего ретроспективного исследования с участием 18 800 пациентов, наличие имплантированного устройства было ассоциировано со значимо более высокой частотой умеренной и тяжёлой ТР (23,8% против 7,7% у пациентов без устройств). При этом тяжёлая ТР повышала риск смертности от всех причин в 1,6–2,5 раза независимо от сопутствующих факторов, включая возраст, фракцию выброса левого желудочка, фибрилляцию предсердий и давление в лёгочной артерии [4].
Приведём клинический пример. У мужчины 47 лет в анамнезе — длительно существующая артериальная гипертензия III степени (систолическое артериальное давление до 200 мм рт. ст.), при которой не удавалось достичь целевых значений артериального давления, несмотря на проводимую терапию. Хроническая перегрузка давлением привела к ремоделированию левого желудочка с его дилатацией, снижению фракции выброса и развитию тяжёлой вторичной митральной недостаточности. На этом фоне возникла фибрилляция предсердий с переходом в постоянную форму. В последующем у пациента была выявлена брадисистолическая форма фибрилляции предсердий, что обусловило необходимость имплантации однокамерного электрокардиостимулятора (ЭКС).
Через 3 мес. после имплантации пациент поступил в стационар с жалобами на нарастание периферических отёков и увеличение живота в объёме. Концентрация N-терминального пропептида натрийуретического гормона при поступлении составила 6000 пг/мл. Рентгенография органов грудной клетки выявила кардиомегалию и признаки венозного застоя. По данным ультразвукового исследования брюшной полости обнаружено умеренное количество жидкости в брюшной полости. На эхокардиограмме отмечена дилатация обоих предсердий, выявлена умеренная митральная и тяжёлая ТР, градиент на ТК составил 25 мм рт. ст. При фокусной визуализации правых камер сердца выявлены признаки перфорации створки ТК электродом ЭКС (рис. 1).
Рис. 1. Трансторакальная эхокардиография: a — перфорация передней створки трикуспидального клапана желудочковым электродом электрокардиостимулятора; b — цветовое допплеровское картирование: струя регургитации, проходящая сквозь отверстие перфорации.
Прослеживалась чёткая причинно-следственная связь между имплантацией ЭКС и ухудшением клинического состояния, а также декомпенсацией хронической сердечной недостаточности. Именно после установки устройства было отмечено прогрессирование правожелудочковой недостаточности с отёками нижних конечностей и небольшим асцитом. ЭхоКГ позволила заподозрить непосредственный механизм — повреждение створки ТК электродом. Своевременное распознавание этого осложнения стало отправной точкой для пересмотра тактики ведения пациента и обсуждения вопроса о хирургической коррекции.
Таким образом, важна клиническая настороженность в отношении возможной электрод-ассоциированной ТР. Заподозрить патологию можно в следующих случаях:
- появление или нарастание ТР вскоре после имплантации устройства;
- наличие симптомов правожелудочковой недостаточности (отёки, гепатомегалия, асцит, утомляемость);
- отсутствие других очевидных причин ТР, таких как первичные поражения ТК или выраженная лёгочная гипертензия.
Методы диагностики
Стандартная эхоКГ является первым этапом диагностики, но имеет ряд ограничений у пациентов с имплантированными устройствами. Из-за высокой акустической плотности и отражающей способности электрода возможна систематическая недооценка степени ТР, особенно при использовании цветового допплеровского картирования. Кроме того, сложности визуализации связаны с анатомическими особенностями ТК, его неплоской формой и сложной геометрией ПЖ. В одном из исследований показано, что эхоКГ недооценивает тяжесть ТР у 37% пациентов по сравнению с интраоперационной чреспищеводной эхоКГ [10]. При этом визуализация полного прохождения электрода через кольцо клапана возможна только в 15% случаев при эхоКГ [1].
Современные международные рекомендации подчёркивают необходимость комплексного подхода к оценке тяжести ТР, так как ни один из параметров в отдельности не обладает достаточной точностью. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов [20] и Американской ассоциации эхокардиографии [21], рекомендуется использовать качественные, полуколичественные и количественные показатели. Эхокардиографическими признаками тяжёлой ТР являются следующие:
- Качественные признаки:
- морфология клапана: молотящая створка, крупный дефект коаптации;
- цветовое допплеровское картирование: крупная центральная или эксцентричная струя, достигающая стенки правого предсердия;
- постоянно-волновой допплер: плотный/треугольный сигнал с ранним пиком (<2 м/с).
- Полуколичественные критерии:
- ширина струи регургитации в самом узком месте (vena contracta) ≥7 мм;
- радиус проксимальной зоны регургитации >9 мм;
- кровоток в печёночных венах — обратный систолический (высокоспецифичный признак тяжёлой ТР);
- трансклапанный поток — доминирование волны E (≥1 см/с).
- Количественные показатели:
- эффективная площадь отверстия регургитации ≥40 мм² (рекомендуется измерять в двух плоскостях);
- объём регургитации ≥45 мл.
- Дополнительно: расширение правых отделов сердца (правое предсердие, ПЖ), нижней полой вены.
Трёхмерная эхоКГ и чреспищеводная эхоКГ позволяют одновременно визуализировать все три створки ТК, определить точную топографию электрода относительно створок и кольца, а также дифференцировать механизмы взаимодействия: импинджмент, адгезию, перфорацию, прохождение электрода через комиссуры или центр клапана. В одном из исследований 3D-визуализация позволила точно определить взаимодействие электрода с клапаном у 90% пациентов [22].
Однако своевременное выявление новой или прогрессирующей ТР после имплантации устройства может быть затруднено при отсутствии исходного эхоКГ-исследования. В работе M. Andreas и соавт. [6] подчёркивается важность предварительной оценки функции ТК и ПЖ до имплантации устройства. Авторы рекомендуют всем кандидатам на имплантацию внутрисердечного устройства проведение комплексной базовой эхоКГ с акцентом на правые отделы сердца и ТК, что особенно актуально у пациентов с факторами риска прогрессирования ТР. При наличии выраженной регургитации до имплантации следует организовать мультидисциплинарный консилиум, чтобы обсудить возможность применения альтернативных методов стимуляции. После имплантации устройства целесообразно выполнить повторное эхоКГ-исследование в течение первых недель. При выявлении значимого ухудшения ТР предпочтительным методом визуализации является чреспищеводная эхоКГ, позволяющая более точно определить механизм регургитации (рис. 2). Такой подход обеспечивает своевременную диагностику и обоснование дальнейшей тактики, включая возможную экстракцию электрода или хирургическое вмешательство [6].
Рис. 2. Алгоритм визуализации для пациентов, которым планируется имплантация внутрисердечных устройств. ТР — трикуспидальная регургитация, эхоКГ — эхокардиография.
Диагностика электрод-ассоциированной ТР включает следующие этапы [23]:
- определение наличия новой или усугубившейся ТР путём прямого сравнения доимплантационного и послеимплантационного трансторакального эхоКГ-исследования;
- оценку степени ТР в соответствии с актуальными рекомендациями;
- подтверждение механического взаимодействия или повреждения створок ТК либо подклапанных структур с помощью 2D- и 3D-эхоКГ;
- оценку гемодинамического воздействия ТР на правые отделы сердца в случае регургитации более умеренной степени;
- решение вопроса о целесообразности и возможности ранней экстракции электрода или хирургического вмешательства.
Дополнительную информацию могут предоставить компьютерная томография и магнитно-резонансная томография сердца, однако их применение ограничено артефактами от электродов и особенностями устройства, такими как невозможность проведения магнитно-резонансной томографии у пациентов с некоторыми типами кардиостимуляторов и дефибрилляторов. Тем не менее компьютерная томография полезна для оценки степени кальциноза и фиброза электродов перед предполагаемой экстракцией [24].
Методы лечения
В настоящее время отсутствуют отдельные клинические рекомендации, регламентирующие ведение пациентов с ТР, ассоциированной с внутрисердечными электродами. В руководствах Европейского общества кардиологов, Американского кардиологического колледжа и Американской кардиологической ассоциации эта патология упоминается лишь фрагментарно, без формализованных алгоритмов стратификации риска и тактики лечения [25–27].
Лечение ТР включает медикаментозную терапию, трансвенозную экстракцию электродов, хирургическое вмешательство и малоинвазивные интервенционные подходы. Консервативное лечение включает назначение диуретиков и других препаратов, направленных на снижение симптомов правожелудочковой сердечной недостаточности и венозного застоя. Однако медикаментозная терапия не способна устранить структурные изменения клапана или электрод-связанную дисфункцию [27].
В настоящее время официальные показания к экстракции электродов в связи с ТР отсутствуют. Процедура проводится преимущественно при инфекциях или дисфункции системы ЭКС [28]. При этом риск осложнений экстракции остаётся существенным — до 11,5% новых или усугубившихся тяжёлых ТР [29]. В исследовании A. Polewczyk и соавт. уменьшение ТР после трансвенозной экстракции было зарегистрировано лишь у 35% пациентов, тем не менее оно ассоциировалось с лучшей долгосрочной выживаемостью [30].
На сегодняшний день хирургические подходы к лечению ТР включают пластику ТК (аннулопластика, пластика створок), а также полное протезирование клапана при необратимых структурных изменениях или выраженном повреждении створок и субвальвулярного аппарата. Согласно рекомендациям Европейского общества кардиологов (2021), хирургическое вмешательство показано пациентам с симптомами сердечной недостаточности (несмотря на медикаментозную терапию) либо при прогрессирующей дисфункции ПЖ (I/IIa класс) [27], в то время как в рекомендациях Американского кардиологического колледжа и Американской кардиологической ассоциации 2020 года аналогичные показания получили IIb класс [26].
В крупном ретроспективном исследовании 622 пациентов с ТР, ассоциированной с электродами, 30-дневная послеоперационная летальность была ниже у пациентов с ТР, непосредственно вызванной электродами (4,4%), по сравнению с пациентами, у которых ТР была вторичной (9,5%) [31]. Это свидетельствует о том, что хирургическая коррекция клапана эффективна и может быть безопаснее именно у пациентов с чётко установленной электрод-ассоциированной этиологией регургитации. В другом ретроспективном анализе B. Pfannmueller и соавт. (116 пациентов) показано, что частота летальности в течение 30 дней после операции составила 14,6%, а 5-летняя выживаемость достигла 45% [32]. В более поздней работе той же группы исследователей, охватившей 80 пациентов с электродами, летальность была значительно ниже и составила 6,3% в течение 30 дней и 58% — через 5 лет после операции [33]. Эти результаты демонстрируют постепенное улучшение исходов хирургического лечения электрод-ассоциированной ТР, что связано с лучшей предоперационной диагностикой и оптимизацией хирургической техники.
Транскатетерные методы (транскатетерная краевая пластика, ортотопическая и гетеротопическая имплантация клапанов, транскатетерная аннулопластика и замена клапана в ранее установленном протезе) развиваются как альтернатива хирургии у пациентов с высоким хирургическим риском. Однако пациенты с электродами, особенно при наличии механического взаимодействия с ТК, часто исключались из таких исследований [34, 35]. Наиболее изученным методом является транскатетерная краевая пластика с использованием устройств MitraClip, TriClip и PASCAL. В исследовании TRILUMINATE (469 пациентов, из них 98 пациентов имели внутрисердечные устройства и эндокардиальные электроды) использование TriClip на фоне медикаментозной терапии привело к стойкому уменьшению степени ТР и улучшению качества жизни. Через 30 дней снижение ТР до умеренной или лёгкой степени тяжести наблюдалось у 88% пациентов с внутрисердечными устройствами и у 87% — без устройств. Клиническое улучшение сохранялось в течение 1 года, без различий по смертности и частоте госпитализаций. Кроме того, в группе пациентов с внутрисердечными устройствами не потребовалось ни одной ревизии или экстракции электрода [36].
Альтернативные методы стимуляции
С учётом риска развития или прогрессирования ТР при прохождении эндокардиальных электродов через ТК в последние годы активно изучаются альтернативные подходы к стимуляции, сохраняющие анатомическую целостность клапана: эпикардиальная стимуляция, проведение желудочкового электрода через коронарный синус, стимуляция пучка Гиса и безэлектродные кардиостимуляторы [6].
Эпикардиальная стимуляция применяется в случаях, когда эндокардиальный доступ невозможен или противопоказан (врождённые аномалии, механические протезы ТК, инфекции и др.). Несмотря на отсутствие механического воздействия на ТК, метод сопряжён с высокой травматичностью, риском осложнений и меньшей надёжностью в долгосрочной перспективе [37].
Стимуляция через коронарный синус особенно актуальна после протезирования ТК. В небольшом исследовании с участием 23 пациентов успешная имплантация была достигнута в 100% случаев, при этом в долгосрочном периоде стабильные параметры стимуляции сохранялись у 96% пациентов [38].
Ещё одним альтернативным подходом является стимуляция проводящей системы (пучок Гиса, левая ножка), позволяющая избежать патологической активации желудочков и минимизировать диссинхронию, что в свою очередь снижает риск геометрических изменений ПЖ и развития вторичной ТР. В небольших сериях наблюдений отмечено, что стимуляция пучка Гиса реже ассоциировалась с ухудшением ТР по сравнению с традиционной апикальной стимуляцией [25].
Безэлектродные кардиостимуляторы (Micra, Nanostim) демонстрируют высокую эффективность и низкий уровень серьёзных осложнений. В регистре Micra PAR (1817 пациентов) серьёзные осложнения за 12 мес. возникли у 2,7% пациентов, что вдвое ниже, чем при трансвенозных системах (7,6%) [39]. Однако и этот метод не исключает развития ТР: в исследовании N.E.G. Beurskens и соавт. у 43% пациентов наблюдалось её прогрессирование, что было сопоставимо с группой пациентов (38%), получивших традиционные двухкамерные трансвенозные устройства [16].
Заключение
Связанная с внутрисердечными электродами ТР представляет собой сложное и недооценённое осложнение, способное значительно ухудшить клиническое состояние пациента. Механизмы её развития включают как механическое повреждение клапанного аппарата, так и индуцированные электростимуляцией нарушения геометрии правых отделов сердца. Диагностика требует применения современных методов визуализации (включая 3D-эхоКГ), позволяющих точно определить механизм регургитации.
Несмотря на повышение настороженности врачей и улучшение качества визуализации, данная патология по-прежнему остаётся недостаточно распознаваемой в клинической практике, а маршрутизация пациентов в специализированные центры для обсуждения возможности хирургического или интервенционного лечения зачастую задерживается или вовсе отсутствует. Это может приводить к позднему выявлению осложнения, необратимым изменениям правых отделов сердца и снижению шансов на успешную коррекцию.
На сегодняшний день, в отсутствие единых клинических рекомендаций по лечению данной патологии, выбор лечебной тактики должен основываться на мультидисциплинарной оценке. Эффективность любого лечения у данной категории пациентов требует дальнейшего изучения.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Е.И. Котляревская — определение концепции, написание черновика рукописи, пересмотр и редактирование рукописи; Р.А. Садрутдинов, А.Р. Катанаев, А.В. Сницарь, З.Ф. Мисиков — обеспечение исследования, написание черновика рукописи; Э.Ф. Дадашова — визуализация, написание черновика рукописи; А.М. Баймуканов, Г.Е. Гендлин — руководство исследованием, пересмотр и редактирование рукописи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Этическая экспертиза. Неприменимо.
Согласие на публикацию. Авторы получили письменное добровольное информированное согласие пациента на публикацию конфиденциальных данных, в том числе фотографий (с закрытием лица), в «Российском медицинском журнале», включая его электронную версию (дата подписания 17.12.2024). Объём публикуемых данных согласован с пациентом.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные) не использовались.
Доступ к данным. Неприменимо (статья является описательным обзором литературы).
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей работы технологии генеративного искусственного интеллекта не использовались.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали член редакционной коллегии, член редакционного совета и научный редактор издания.
Additional information
Author contribution: E.I. Kotlyarevskaya: conceptualization, writing—original draft, writing—review & editing; R.A. Sadrutdinov, A.R. Katanaev, A.V. Snitsar, Z.F. Misikov: resources, writing—original draft; E.F. Dadashova: visualization, writing—original draft; A.M. Baymukanov, G.E. Gendlin: supervision, writing—review & editing. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Ethics approval: Not applicable.
Consent for publication: Written informed consent was obtained from the patient for publication of personal data, including photographs (with faces obscured), in the Russian Medicine and its online version (signed on December 17, 2024). The scope of the published data was approved by the patient.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interest: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this article.
Data availability statement: Not applicable as this is a descriptive review.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved a member of the Editorial Board, a member of the Editorial Council, and the in-house scientific editor.
About the authors
Elizaveta I. Kotlyarevskaya
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
Email: doctor.liza999@gmail.com
ORCID iD: 0009-0003-2918-9804
MD
Russian Federation, 26 Bakinskaya st, Moscow, 115516Rim A. Sadrutdinov
City Clinical Hospital No. 24, Moscow
Email: sadrutdinovrimalbertovic@gmail.com
ORCID iD: 0009-0003-1344-6941
MD
Russian Federation, MoscowElnara F. Dadashova
City Clinical Hospital No. 24, Moscow
Email: elnaraferruhovnadadasova@gmail.com
ORCID iD: 0009-0003-3324-3957
MD
Russian Federation, MoscowAzamat M. Baymukanov
City Clinical Hospital named after V.M. Buyanov
Author for correspondence.
Email: baymukanov@gmail.com
ORCID iD: 0000-0003-0438-8981
SPIN-code: 3039-3880
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, MoscowAlexander R. Katanaev
City Clinical Hospital No. 24, Moscow
Email: katanaevaaleksandr8@gmail.com
ORCID iD: 0009-0009-0052-297X
MD
Russian Federation, MoscowArtem V. Snitsar
City Clinical Hospital No. 24, Moscow
Email: snitsar@gmail.com
ORCID iD: 0000-0001-6053-4651
SPIN-code: 3059-5317
MD
Russian Federation, MoscowZaur F. Misikov
City Clinical Hospital No. 24, Moscow
Email: misikov-zf@rudn.ru
ORCID iD: 0009-0001-3366-7157
SPIN-code: 5041-6813
MD
Russian Federation, MoscowGennadiy E. Gendlin
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
Email: rgmugt2@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-7846-1611
SPIN-code: 5818-8461
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, MoscowReferences
- Al-Mohaissen MA, Chan KL. Prevalence and mechanism of tricuspid regurgitation following implantation of endocardial leads for pacemaker or cardioverter-defibrillator. J Am Soc Echocardiogr. 2012;25(3):245–252. doi: 10.1016/j.echo.2011.11.020
- Vieitez JM, Monteagudo JM, Mahia P, et al. New insights of tricuspid regurgitation: a large-scale prospective cohort study. Eur Heart J Cardiovasc Imaging. 2021;22(2):196–202. doi: 10.1093/ehjci/jeaa205 EDN: IBVBIU
- Tatum R, Maynes EJ, Wood CT, et al. Tricuspid regurgitation associated with implantable electrical device insertion: A systematic review and meta-analysis. Pacing Clin Electrophysiol. 2021;44(8):1297–1302. doi: 10.1111/pace.14287 EDN: YFARFV
- Offen S, Strange G, Playford D, et al. Prevalence and prognostic impact of tricuspid regurgitation in patients with cardiac implantable electronic devices: From the national echocardiography database of Australia. Int J Cardiol. 2023;370:338–344. doi: 10.1016/j.ijcard.2022.10.160 EDN: WAMAER
- Van De Heyning CM, Elbarasi E, Masiero S, et al. Prospective study of tricuspid regurgitation associated with permanent leads after cardiac rhythm device implantation. Can J Cardiol. 2019;35(4):389–395. doi: 10.1016/j.cjca.2018.11.014
- Andreas M, Burri H, Praz F, et al. Tricuspid valve disease and cardiac implantable electronic devices. Eur Heart J. 2024;45(5):346–365. doi: 10.1093/eurheartj/ehad783 EDN: DDXPCW
- Aldaas OM, Ma G, Bui Q, et al. Tricuspid regurgitation in the setting of cardiac implantable electronic devices. Struct Heart. 2024;9(1):100319. doi: 10.1016/j.shj.2024.100319 EDN: HRYEAT
- Hussein AA, Wilkoff BL. Lead extraction considerations for the referring cardiologist. Cardiol Rev. 2017;25(1):17–21. doi: 10.1097/CRD.0000000000000130
- Addetia K, Harb SC, Hahn RT, et al. Cardiac implantable electronic device lead-induced tricuspid regurgitation. JACC Cardiovasc Imaging. 2019;12(4):622–636. doi: 10.1016/j.jcmg.2018.09.028
- Lin G, Nishimura RA, Connolly HM, Dearani JA, et al. Severe symptomatic tricuspid valve regurgitation due to permanent pacemaker or implantable cardioverter-defibrillator leads. J Am Coll Cardiol. 2005;45(10):1672–1675. doi: 10.1016/j.jacc.2005.02.037
- Saito M, Kaye G, Negishi K, et al. Dyssynchrony, contraction efficiency and regional function with apical and non-apical RV pacing. Heart. 2015;101(8):600–608. doi: 10.1136/heartjnl-2014-306990
- Al-Bawardy R, Krishnaswamy A, Rajeswaran J, et al. Tricuspid regurgitation and implantable devices. Pacing Clin Electrophysiol. 2015;38(2):259–266. doi: 10.1111/pace.12530
- Fanari Z, Hammami S, Hammami MB, et al. The effects of right ventricular apical pacing with transvenous pacemaker and implantable cardioverter defibrillator on mitral and tricuspid regurgitation. J Electrocardiol. 2015;48(5):791–797. doi: 10.1016/j.jelectrocard.2015.07.002
- Lee RC, Friedman SE, Kono AT, et al. Tricuspid regurgitation following implantation of endocardial leads: incidence and predictors. Pacing Clin Electrophysiol. 2015;38(11):1267–1274. doi: 10.1111/pace.12701
- Delling FN, Hassan ZK, Piatkowski G, et al. Tricuspid regurgitation and mortality in patients with transvenous permanent pacemaker leads. Am J Cardiol. 2016;117(6):988–992. doi: 10.1016/j.amjcard.2015.12.038
- Beurskens NEG, Tjong FVY, de Bruin-Bon RHA, et al. Impact of leadless pacemaker therapy on cardiac and atrioventricular valve function through 12 months of follow-up. Circ Arrhythm Electrophysiol. 2019;12(5):e007124. doi: 10.1161/CIRCEP.118.007124
- Nakajima H, Seo Y, Ishizu T, et al. Features of lead-induced tricuspid regurgitation in patients with heart failure events after cardiac implantation of electronic devices — A three-dimensional echocardiographic study. Circ J. 2020;84(12):2302–2311. doi: 10.1253/circj.CJ-20-0620 EDN: GLRIJA
- Kanawati J, Ng ACC, Khan H, et al. Long-term follow-up of mortality and heart failure hospitalisation in patients with intracardiac device-related tricuspid regurgitation. Heart Lung Circ. 2021;30(5):692–697. doi: 10.1016/j.hlc.2020.08.028 EDN: HIWRJG
- Nemoto N, Lesser JR, Pedersen WR, et al. Pathogenic structural heart changes in early tricuspid regurgitation. J Thorac Cardiovasc Surg. 2015;150(2):323–330. doi: 10.1016/j.jtcvs.2015.05.009
- Lancellotti P, Moura L, Pierard LA, et al. European Association of Echocardiography recommendations for the assessment of valvular regurgitation. Part 2: mitral and tricuspid regurgitation (native valve disease). Eur J Echocardiogr. 2010;11(4):307–332. doi: 10.1093/ejechocard/jeq031
- Zoghbi WA, Adams D, Bonow RO, et al. Recommendations for Noninvasive Evaluation of Native Valvular Regurgitation. J Am Soc Echocardiogr. 2017;30(4):303–371. doi: 10.1016/j.echo.2017.01.007
- Mediratta A, Addetia K, Yamat M, et al. 3D echocardiographic location of implantable device leads and mechanism of associated tricuspid regurgitation. JACC Cardiovasc Imaging. 2014;7(4):337–347. doi: 10.1016/j.jcmg.2013.11.007
- Gelves-Meza J, Lang RM, Valderrama-Achury MD, et al. Tricuspid regurgitation related to cardiac implantable electronic devices: an integrative review. J Am Soc Echocardiogr. 2022;35(11):1107–1122. doi: 10.1016/j.echo.2022.08.004 EDN: DHLAHQ
- Svennberg E, Jacobs K, McVeigh E, et al. Computed tomography-guided risk assessment in percutaneous lead extraction. JACC Clin Electrophysiol. 2019;5(12):1439–1446. doi: 10.1016/j.jacep.2019.09.007
- Glikson M, Nielsen JC, Kronborg MB, et al. 2021 ESC Guidelines on cardiac pacing and cardiac resynchronization therapy. Eur Heart J. 2021;42(35):3427–3520. doi: 10.1093/eurheartj/ehab364 EDN: DJULHV
- Otto CM, Nishimura RA, Bonow RO, et al. 2020 ACC/AHA Guideline for the management of patients with valvular heart disease: A report of the American College of Cardiology/American Heart Association Joint Committee on Clinical Practice Guidelines. Circulation. 2021;143(5):e72–e227. doi: 10.1161/CIR.0000000000000923 EDN: ZKKKHV
- Vahanian A, Beyersdorf F, Praz F, et al. 2021 ESC/EACTS Guidelines for the management of valvular heart disease. Eur Heart J. 2022;43(7):561–632. doi: 10.1093/eurheartj/ehab395 EDN: FKKCLE
- Bongiorni MG, Burri H, Deharo JC, et al. 2018 EHRA expert consensus statement on lead extraction: recommendations on definitions, endpoints, research trial design, and data collection requirements for clinical scientific studies and registries: endorsed by APHRS/HRS/LAHRS. Europace. 2018;20(7):1217. doi: 10.1093/europace/euy050
- Park SJ, Gentry JL 3rd, Varma N, et al. Transvenous extraction of pacemaker and defibrillator leads and the risk of tricuspid valve regurgitation. JACC Clin Electrophysiol. 2018;4(11):1421–1428. doi: 10.1016/j.jacep.2018.07.011
- Polewczyk A, Jacheć W, Nowosielecka D, et al. Lead dependent tricuspid valve dysfunction-risk factors, improvement after transvenous lead extraction and long-term prognosis. J Clin Med. 2021;11(1):89. doi: 10.3390/jcm11010089 EDN: WAQZLA
- Saran N, Said SM, Schaff HV, et al. Outcome of tricuspid valve surgery in the presence of permanent pacemaker. J Thorac Cardiovasc Surg. 2018;155(4):1498–1508.e3. doi: 10.1016/j.jtcvs.2017.11.093
- Pfannmueller B, Hirnle G, Seeburger J, et al. Tricuspid valve repair in the presence of a permanent ventricular pacemaker lead. Eur J Cardiothorac Surg. 2011;39(5):657–661. doi: 10.1016/j.ejcts.2010.08.051
- Pfannmueller B, Budde LM, Etz CD, et al. Mid-term results after isolated tricuspid valve surgery in the presence of right ventricular leads. J Cardiovasc Surg (Torino). 2021;62(5):510–514. doi: 10.23736/S0021-9509.21.11803-8 EDN: NDDAGP
- Latib A, Mangieri A. Transcatheter tricuspid valve repair: new valve, new opportunities, new challenges. J Am Coll Cardiol. 2017;69(14):1807–1810. doi: 10.1016/j.jacc.2017.02.016
- Taramasso M, Maisano F. Novel technologies for percutaneous treatment of tricuspid valve regurgitation. Eur Heart J. 2017;38(36):2707–2710. doi: 10.1093/eurheartj/ehx475
- Naik H, Price MJ, Kapadia S, et al. Tricuspid transcatheter edge-to-edge repair in patients with transvalvular CIED Leads: The TRILUMINATE Pivotal Trial. JACC Clin Electrophysiol. 2025;11(5):1012–1020. doi: 10.1016/j.jacep.2025.01.001
- Belott P, Reynolds D. permanent pacemaker and implantable cardioverter-defibrillator implantation in adults. In: Clinical cardiac pacing, defibrillation and resynchronization therapy. Elsevier; 2017. P. 631–691. doi: 10.1016/B978-0-323-37804-8.00026-2
- Noheria A, van Zyl M, Scott LR, et al. Single-site ventricular pacing via the coronary sinus in patients with tricuspid valve disease. Europace. 2018;20(4):636–642. doi: 10.1093/europace/euw422
- El-Chami MF, Al-Samadi F, Clementy N, et al. Updated performance of the Micra transcatheter pacemaker in the real-world setting: A comparison to the investigational study and a transvenous historical control. Heart Rhythm. 2018;15(12):1800–1807. doi: 10.1016/j.hrthm.2018.08.005
Supplementary files