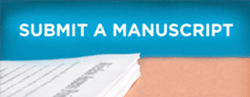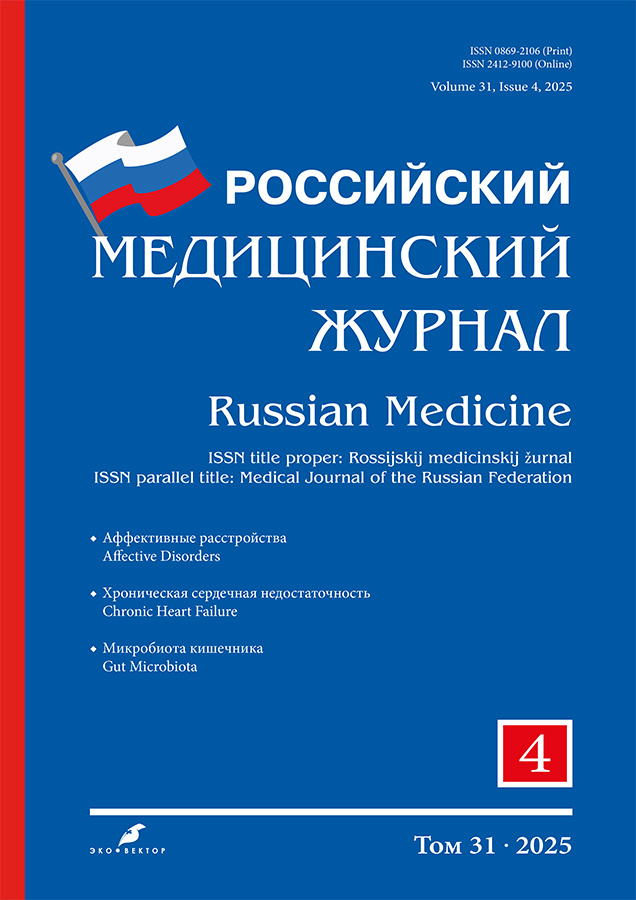Structural and functional changes in right heart in patients with obstructive sleep apnea syndrome
- Authors: Karasev A.A.1,2, Poteshkina N.G.1,2
-
Affiliations:
- The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov
- Moscow City Clinical Hospital 52
- Issue: Vol 31, No 4 (2025)
- Pages: 391-397
- Section: Reviews
- Submitted: 03.06.2025
- Accepted: 30.06.2025
- Published: 08.09.2025
- URL: https://medjrf.com/0869-2106/article/view/681985
- DOI: https://doi.org/10.17816/medjrf681985
- EDN: https://elibrary.ru/TMDDQS
- ID: 681985
Cite item
Abstract
Obstructive sleep apnea syndrome is a common condition in the global population. Despite its relatively short history of study, there has been accumulated sufficient evidence of its negative influence on the cardiovascular system. However, the condition of the right heart chambers and the development of pulmonary hypertension in this patient cohort often remain outside the focus due to disturbed hemodynamics in the pulmonary circulation system. Diagnosis of right heart involvement in patients with obstructive sleep apnea syndrome is challenging as there is no specific clinical manifestations and such patients have multiple comorbidities.
The aim of this review article is to describe original studies and meta-analyses dedicated to examining the structures and functions of the right heart chambers and to attempt to highlight the multifaceted nature of pulmonary hypertension diagnosis in patients with obstructive sleep apnea syndrome.
The literature review was conducted using medical abstract databases PubMed (MEDLINE), ScienceDirect, and eLIBRARY.RU.
Full Text
ВВЕДЕНИЕ
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС) — наиболее часто встречающееся расстройство сна [1]. В настоящий момент в общемировой популяции СОАС страдают приблизительно 7% мужчин и 5% женщин [2]. Несмотря на то, что данная патология была впервые описана в 1965 году [3], уже накоплены масштабные данные в пользу негативного влияния СОАС на здоровье человека, в особенности на состояние сердечно-сосудистой системы [4–6]. В литературе широко представлены данные об ассоциативной связи между СОАС и сердечно-сосудистой смертью [относительный риск 1,94; 95% доверительный интервал (ДИ) 1,39–2,70] [7], кальцинозом коронарных артерий (отношение шансов 1,896; 95% ДИ 1,423–2,526) [8] и риском возникновения первого эпизода фибрилляции предсердий (отношение шансов 95%, ДИ 1,37–2,13) [9].
Известно, что при СОАС формируется отрицательное давление в грудной клетке при попытке вдоха в условиях обструкции верхних дыхательных путей. Данный механизм обеспечивает увеличение венозного возврата к правым отделам сердца (ПОС) и преднагрузку на них [10]. Таким образом, нарушение физиологии дыхания у пациентов с СОАС потенциально приводит к дисфункции ПОС. Представляет интерес детальный анализ изменений со стороны ПОС у пациентов с СОАС.
Данный обзор посвящён обзору актуальных исследований в рамках оценки структурно-функциональных изменений, которые претерпевают ПОС у пациентов с СОАС.
ВЛИЯНИЕ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА НА СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА
Ведущим механизмом развития СОАС является снижение эластичности и коллабирование верхних дыхательных путей во время сна. В дальнейшем ввиду значительной редукции (гипопноэ) или полной остановки дыхания (апноэ) возникают гипоксемия и гиперкапния, а также вторичные нарушения — превалирование симпатической нервной системы над парасимпатической, системная вазоконстрикция [11].
В аспекте поражения ПОС у пациентов с СОАС ключевое значение имеет именно гипоксия. Хорошо известно, что гипоксемическая лёгочная вазоконстрикция приводит к повышению давления в лёгочных сосудах [12]. Данный патофизиологический процесс приобретает хронический характер у пациентов с СОАС и приводит к формированию лёгочной гипертензии (ЛГ), дилатации и дисфункции ПОС [13]. Дополнительно в условиях гипоксемии и гиперкапнии развиваются дисбаланс пролиферации и апоптоза клеточных элементов стенок сосудов лёгких, а также дисбаланс вазодилатирующих агентов — в первую очередь моноксида азота, простагландинов и вазоконстрикторных агентов, таких как эндотелин-1, ангиотензин II, тромбоксан А2 [14]. Представленные нарушения обеспечивают облитерацию и хронический вазоспазм сосудов малого круга кровообращения, что приводит к повышению давления в нём и, соответственно, к ЛГ и дисфункции ПОС. Так, в работе М. Harańczyk и соавт. на когорте из 50 человек было показано, что у пациентов с СОАС и систолической дисфункцией правого желудочка (ПЖ) концентрация эндотелина-1 была выше, чем у пациентов с сохранённой функцией ПЖ: 26,0±13,2 против 11,5±10,9 пг/мл (p=0,04) [15].
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПРАВЫХ ОТДЕЛОВ СЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ С СИНДРОМОМ ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА
В рамках небольших одноцентровых исследований показаны изменения геометрических и функциональных параметров ПОС у пациентов с СОАС. Так, в исследовании М. Harańczyk и соавт. 77 пациентам с подозрением на СОАС выполнялись трансторакальная эхокардиография и полисомнография. У пациентов со среднетяжёлым [индекс апноэ–гипопноэ (apnea-hypopnea index, AHI) составлял 15–29 эпизодов в час] и тяжёлым СОАС (AHI ≥30 эпизодов в час) в сравнении с пациентами без СОАС (AHI <5 эпизодов в час ) или его лёгким течением (AHI от 5 до 14 эпизодов в час) установлены больший диаметр выносящего ПЖ — 32,6±3,6 против 30,9±2,4 мм (p <0,05); бóльшая площадь правого предсердия (ПП) — 21,1±48 против 17,2±3,2 мм (p=0,002); больший средний диаметр ПЖ — 35,5±7,0 против 32,2±4,7 мм (p=0,02); меньшая величина систолической экскурсии фиброзного кольца трикуспидального клапана (tricuspid annular plane systolic excursion, TAPSE) — 21,9±4,5 против 25,8±4,4 мм (p=0,04). При этом не получено статистически значимых различий при сравнении скоростей пиков e´ и s´ латеральной части фиброзного кольца трикуспидального клапана при тканевом допплеровском исследовании и величин пикового градиента трикуспидальной регургитации. В данном исследовании пациенты с количеством эпизодов апноэ >10 в час характеризовались наиболее выраженной дилатацией ПОС и ухудшением систолической функции ПЖ [16].
Схожие результаты были получены в исследовании H. Ibn Hadj Amor и соавт. [17]. Обследовано 139 пациентов с СОАС и 45 пациентов в составе контрольной группы, которым проводилась эхокардиография. При сравнении параметров отмечен больший диаметр ПЖ у пациентов с СОАС: 20,0±7,7 против 32,4±5,5 мм в контрольной группе (p <0,0001). Систолическое давление в лёгочной артерии (СДЛА) было также значимо выше у пациентов СОАС: 31,2±8,2 против 20,9±9,8 мм рт. ст. (p <0,0001). Среди функциональных параметров ПОС медианные значения TAPSE в обеих группах находились в пределах нормальных значений, однако у пациентов с СОАС они были статистически значимо ниже, чем у пациентов группы контроля: 17,7±4,7 против 26,0±5,7 мм (p <0,0001). При дальнейшем анализе данных установлено, что СОАС был независимо связан именно с дилатацией ПЖ на ранних этапах заболевания, но не с систолической дисфункцией ПЖ (ОР 0,257; 95% ДИ 0,114–0,582; p=0,001). Ввиду этого авторы предлагали использовать дилатацию ПЖ как ранний и потенциально обратимый элемент СОАС [17].
Негативное влияние на ПОС было подтверждено в крупном метаанализе A. Maripov и соавт., включившем 25 исследований, 1503 пациентов с СОАС (AHI ≥5) и 796 пациентов контрольной группы. У пациентов с СОАС показан больший средний диаметр ПЖ — 2,49 см (95% ДИ 1,62–3,37; p=0,0001) [18].
Таким образом, накоплены убедительные данные в пользу влияния СОАС на структурные параметры ПОС, а именно показаны бóльшие значения геометрических параметров ПЖ и ПП у пациентов с СОАС в сравнении с здоровыми пациентами.
Обсуждение структурных параметров ПОС у пациентов с СОАС невозможно без оценки функционального статуса ПЖ и в меньшей степени — ПП.
В ряде исследований систолической функции ПОС получены противоречивые результаты. Например, в работе A. Vitarelli и соавт. продемонстрированы более низкие значения TAPSE (p <0,05) у 37 пациентов со среднетяжёлым (18±4 мм) и тяжёлым (16±4 мм) СОАС в сравнении с группой контроля (23±6 мм). Аналогичные изменения были выявлены при исследовании других показателей: фракционного изменения площади ПЖ (p <0,05), скорости пика s´ фиброзного кольца трикуспидального клапана при тканевом допплеровском исследовании (p <0,05). Необходимо отметить, что значения перечисленных параметров статистически не различались между группой контроля и пациентами с лёгким СОАС [19]. При этом имеются исследования, в которых не продемонстрировано значимых различий показателей рутинных методов оценки систолической функции ПОС (TAPSE, фракционного изменения площади ПЖ, s´ фиброзного кольца трикуспидального клапана) между пациентами с СОАС и здоровыми добровольцами [20, 21].
Актуальной в исследовании систолической функции ПОС представляется (особенно в рамках субклинической дисфункции ПЖ) оценка глобальной продольной деформации (global longitudinal strain, GLS) и продольной деформации свободной стенки ПЖ. В исследовании P. Macek и соавт. показатель продольной деформации свободной стенки ПЖ у 33 пациентов с диагностированным СОАС был значимо ниже, чем у пациентов без СОАС (n=10): (27,17±5,60)% против (−32,64±5,40)% (p=0,023), при этом не получено значимой корреляционной связи между тяжестью СОАС и величиной продольной деформации [22]. Напротив, в исследовании C. Hammerstingl и соавт. на 154 пациентах с лёгким, среднетяжёлым и тяжёлым СОАС показано, что значения GLS ПЖ становились более низкими с ростом тяжести СОАС: в группе лёгкого СОАС GLS ПЖ составила (−20,9±5,8)%, в группе среднетяжёлого СОАС — (−15,5±6,1)%, тяжёлого СОАС — (−12,7±9,2)% (p <0,0001) [21].
Важной частью оценки функционирования ПОС является измерение функции ПП. В исследование J. Li и соавт. были включены 71 пациент с СОАС и 30 пациентов контрольной группы. Установлено, что величина GLS ПП была значимо ниже у пациентов со среднетяжёлым СОАС, чем у пациентов контрольной группы — (33,6±8,2)%, а также значительно ниже у пациентов с тяжёлым СОАС — (30,5±7,8)% (р <0,05). Установлено, что GLS ПП служила независимым предиктором тяжести СОАС [23].
Таким образом, оценка систолической функции ПОС является предметом большого интереса. Данные исследований достаточно противоречивы, однако очевидно, что пациенты с тяжёлым СОАС характеризуются худшей систолической функцией ПЖ и ПП и не все параметры имеют прогностическую ценность как предикторы тяжести СОАС.
СОЧЕТАНИЕ СИНДРОМА ОБСТРУКТИВНОГО АПНОЭ СНА И ЛЁГОЧНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ
В настоящий момент СОАС включён в список Всемирной организации здравоохранения как одна из нозологий в основе формирования ЛГ III класса либо ЛГ, ассоциированной с заболеванием лёгких и/или гипоксией [24]. Между тем пациенты с СОАС могут иметь сочетанную этиологию ЛГ: посттромбоэмболическую ЛГ; идиопатическую ЛГ, ассоциированную с поражением левых отделов сердца [25, 26]. Согласно мнению E. Battaglia и соавт., влияние СОАС на давление в лёгочной артерии невысоко у пациентов без сопутствующих сердечно-сосудистых и респираторных заболеваний [27]. Существуют трудности в клинической диагностике ЛГ у пациентов с СОАС. Одышка, низкая толерантность к физической нагрузке, отёки нижних конечностей как симптомы ЛГ маскируются у таких пациентов либо интерпретируются в рамках другой сердечно-сосудистой патологии. Необходимость внимания к комбинации СОАС и ЛГ показана в исследовании O.A. Minai и соавт. на 83 пациентах, у 30% из которых была исключена ЛГ с помощью «золотого» стандарта диагнос-тики — катетеризации ПОС. Сравнивали выживаемость пациентов с сочетанием СОАС и ЛГ и без неё за 1, 4 и 8 лет наблюдения. Выживаемость пациентов с СОАС и ЛГ была ниже и составила 93, 75 и 43%, пациентов с СОАС без ЛГ — 100, 90 и 76% соответственно [28]. Продемонстрировано, что пациенты с СОАС и диагностированной ЛГ имели худшую выживаемость, особенно на позднем этапе наблюдения.
Учитывая перечисленные аспекты, вопрос о первичной или вторичной природе ЛГ у пациентов с СОАС требует отдельного изучения.
В ряде исследований не было получено убедительных данных, демонстрирующих прямую зависимость наличия ЛГ от тяжести СОАС. Так, в исследовании L. Yan и соавт. изучены клинические и лабораторные показатели 140 пациентов с установленным диагнозом ЛГ посредством катетеризации ПОС. Из них 35 пациентов имели диагноз СОАС. Так, пациенты с СОАС и ЛГ парадоксально характеризовались меньшим средним давлением в лёгочной артерии (срДЛА) в сравнении с пациентами с ЛГ и без СОАС: 53,57±13,08 против 56,45±18,19 мм рт. ст. (р=0,01). Интересно, что в рамках этого исследования не было получено статистически значимых различий между группами при сравнении лабораторных и клинических характеристик пациентов: концентрации N-концевого мозгового натрийуретического пептида (1263,1±1298,8 против 1662,47±1493,71 пг/мл, р=0,553) и дистанции теста 6-минутной ходьбы (418,66 ± 96,40 против 368,56 ± 120,62 м, р=0,337) [29].
В метаанализе А. Akbari и соавт., включившем в себя 39 исследований, изучены характеристики пациентов с сочетанием СОАС и ЛГ. В рамках данного метаанализа установлено, что срДЛА статистически не различалось между пациентами с СОАС и ЛГ и пациентами с СОАС без ЛГ: −2,4 [−5,1; 0,3] (р=0,078) [30].
С другой стороны, косвенно судить о наличии ЛГ у пациентов с СОАС можно ввиду наличия данных о снижении давления в лёгочной артерии на фоне терапии постоянным положительным давлением воздуха (continuous positive airway pressure, CPAP). В исследовании D. Sajkov с соавт. показано снижение срДЛА с 17,0±1,2 до 14,5±0,8 мм рт. ст. у 22 пациентов с СОАС через 4 мес. CPAP-терапии (p <0,05) [31]. Аналогичный позитивный эффект на давление в лёгочной артерии был получен в исследовании M.A. Arias и соавт., в котором сравнивали уровень СДЛА у 23 пациентов с тяжёлым СОАС (AHI составил 44,1±29,3 эпизода в час) на фоне СРАР-терапии с показателями 10 здоровых добровольцев. Исходно пациенты с СОАС характеризовались значимо более высоким уровнем СДЛА в сравнении с группой контроля: 29,8±8,8 против 23,4±4,1 мм рт. ст. (р=0,036). Через 12 нед. СРАР-терапии отмечалось снижение СДЛА у пациентов с СОАС до 24,0±5,8 мм рт. ст. (р <0,0001) [32].
Суммированы данные по эффекту СРАР-терапии в метаанализе T.F. Imran и соавт. По результатам 7 исследований, включавших 222 пациента с тяжёлым СОАС (средний АHI составил 58 эпизодов в час), отмечалось снижение срДЛА в среднем на 13,3 мм рт. ст. (95% ДИ 12,7–14,0), а время терапии составляло от 3 до 70 мес. [33]. Таким образом, можно утверждать, что активная коррекция гипоксемии у пациентов с СОАС позволяет снизить вазотропные и эндотелий-зависимые констрикторные эффекты и, соответственно, улучшить гемодинамику в малом круге кровообращения.
Учитывая всё вышесказанное, наличие у пациентов с СОАС ЛГ, её генез и взаимосвязь тяжести СОАС с гемодинамическим профилем малого круга кровообращения остаётся предметом дискуссий.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Исследование состояния ПОС у пациентов с СОАС остаётся актуальной задачей ввиду наличия доказанных изменений структурных параметров. Несмотря на это, представляют определённые трудности оценка и интерпретация изменений гемодинамики малого круга кровообращения, в частности — вклада ЛГ в тяжесть течения и прогноза пациентов с СОАС. Недостаточно убедительных данных о том, что систолическая функция ПОС снижается пропорционально тяжести СОАС. Ввиду этого приобретают значимость методы субклинической оценки функции ПЖ и предсердий.
Необходимы новые исследования по данной тематике с включением большего числа пациентов и с более детальным учётом сердечно-сосудистой коморбидности пациентов с СОАС.
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Вклад авторов. А.А. Карасёв — определение концепции, написание черновика рукописи, пересмотр и редактирование рукописи; Н.Г. Потешкина — научное руководство, пересмотр и редактирование рукописи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Этическая экспертиза. Неприменимо.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные) не использовались.
Доступ к данным. Неприменимо (статья является описательным обзором литературы).
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей работы технологии генеративного искусственного интеллекта не использовались.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали член редакционной коллегии, член редакционного совета и научный редактор издания.
ADDITIONAL INFORMATION
Author contributions: A.A. Karasev: conceptualization, writing—original draft, writing—review & editing; N.G. Poteshkina: supervision, writing—review & editing. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Ethics approval: Not applicable.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities or interests for the last three years related with for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: In creating this work, previously published information (text, illustrations, data) was not used.
Data availability statement: Not applicable (the article is a descriptive literature review).
Generative AI: Generative AI technologies were not used for this article creation.
Provenance and peer-review: The present paper was submitted to the journal in a proactive manner and was subsequently reviewed by editorial board member, editorial council member, and the scientific editor of the periodical in accordance with the standard procedure.
About the authors
Anton A. Karasev
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov; Moscow City Clinical Hospital 52
Author for correspondence.
Email: akara95_2010@mail.ru
ORCID iD: 0000-0002-3863-6755
SPIN-code: 2656-1420
MD, Cand. Sci. (Medicine)
Russian Federation, Moscow; 3 Pehotnaya st, Moscow, 123182Nataliya G. Poteshkina
The Russian National Research Medical University named after N.I. Pirogov; Moscow City Clinical Hospital 52
Email: nat-pa@yandex.ru
ORCID iD: 0000-0001-9803-2139
SPIN-code: 2863-4840
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, Moscow; 3 Pehotnaya st, Moscow, 123182References
- Platon AL, Stelea CG, Boișteanu O, et al. An update on obstructive sleep apnea syndrome—a literature review. Medicina (Kaunas). 2023;59(8):1459. doi: 10.3390/medicina59081459 EDN: JOQVUS
- Sarkar P, Mukherjee S, Chai-Coetzer CL, McEvoy RD. The epidemiology of obstructive sleep apnoea and cardiovascular disease. J Thorac Dis. 2018;10(Suppl. 34):S4189–S4200. doi: 10.21037/jtd.2018.12.56
- Jayesh SR, Bhat WM. Mandibular advancement device for obstructive sleep apnea: An overview. J Pharm Bioallied Sci. 2015;7(Suppl 1):S223–S225. doi: 10.4103/0975-7406.155915
- Horvath CM, Fisser C, Floras JS, et al. Nocturnal cardiac arrhythmias in heart failure with obstructive and central sleep apnea. Chest. 2024;166(6):1546–1556. doi: 10.1016/j.chest.2024.08.003 EDN: TIURXX
- Wang G, Miao H, Hao W, et al. Association of obstructive sleep apnoea with long-term cardiovascular events in patients with acute coronary syndrome with or without hypertension: insight from the OSA-ACS project. BMJ Open Respir Res. 2023;10(1):e001662. doi: 10.1136/bmjresp-2023-001662 EDN: TPPMLT
- Ionin VA, Pavlova VA, Baranova EI. Obstructive sleep apnea syndrome and cardiovascular diseases: from diagnosis to personalized therapy (part 2). Russian Journal for Personalized Medicine. 2022;2(2):54–62. doi: 10.18705/2782-3806-2022-2-2-54-62 EDN: CMFHOS
- Heilbrunn ES, Ssentongo P, Chinchilli VM, et al. Sudden death in individuals with obstructive sleep apnoea: a systematic review and meta-analysis. BMJ Open Respir Res. 2021;8(1):e000656. doi: 10.1136/bmjresp-2020-000656 EDN: LCIJCV
- Hao W, Wang X, Fan J, et al. Association between apnea-hypopnea index and coronary artery calcification: a systematic review and meta-analysis. Ann Med. 2021;53(1):302–317. doi: 10.1080/07853890.2021.1875137 EDN: PVQHPY
- Tung P, Levitzky YS, Wang R, et al. Obstructive and central sleep apnea and the risk of incident atrial fibrillation in a community cohort of men and women. J Am Heart Assoc. 2017;6(7):e004500. doi: 10.1161/JAHA.116.004500 EDN: YFLKWF
- Pearse SG, Cowie MR. Sleep-disordered breathing in heart failure. Eur J Heart Fail. 2016;18(4):353–361. doi: 10.1002/ejhf.492
- Read N, Jennings C, Hare A. Obstructive sleep apnoea-hypopnoea syndrome. Emerg Top Life Sci. 2023;7(5):467–476. doi: 10.1042/ETLS20180939 EDN: AGNDDY
- Bonsignore MR, Marrone O, Insalaco G, Bonsignore G. The cardiovascular effects of obstructive sleep apnoeas: analysis of pathogenic mechanisms. Eur Respir J. 1994;7(4):786–805. doi: 10.1183/09031936.94.07040786
- Tsipis A, Petropoulou E. Echocardiography in the evaluation of the right heart. US Cardiol. 2022;16:e08. doi: 10.15420/usc.2021.03 EDN: AAYWYV
- Balcan B, Akdeniz B, Peker Y, The Turcosact Collaborators. Obstructive sleep apnea and pulmonary hypertension: a chicken-and-egg relationship. J Clin Med. 2024;13(10):2961. doi: 10.3390/jcm13102961 EDN: RVGHEZ
- Harańczyk M, Konieczyńska M, Płazak W. Endothelial dysfunction in obstructive sleep apnea patients. Sleep Breath. 2022;26(1):231–242. doi: 10.1007/s11325-021-02382-4
- Harańczyk M, Konieczyńska M, Płazak W. Influence of obstructive sleep apnea on right heart structure and function. Adv Respir Med. 2021;89(5):493–500. doi: 10.5603/ARM.a2021.0095 EDN: KCHFUY
- Ibn Hadj Amor H, Touil I, Chebbi R, et al. Assessment of right ventricular remodeling and dysfunction in obstructive sleep apnea syndrome: a prospective monocentric study. Sleep Breath. 2022;26(2):663–674. doi: 10.1007/s11325-021-02432-x EDN: PCQQCJ
- Maripov A, Mamazhakypov A, Sartmyrzaeva M, et al. Right ventricular remodeling and dysfunction in obstructive sleep apnea: a systematic review of the literature and meta-analysis. Can Respir J. 2017;2017:1587865. doi: 10.1155/2017/1587865
- Vitarelli A, Terzano C, Saponara M, et al. Assessment of right ventricular function in obstructive sleep apnea syndrome and effects of continuous positive airway pressure therapy: a pilot study. Can J Cardiol. 2015;31(7):823–831. doi: 10.1016/j.cjca.2015.01.029
- D'Andrea A, Martone F, Liccardo B, et al. Acute and chronic effects of noninvasive ventilation on left and right myocardial function in patients with obstructive sleep apnea syndrome: a speckle tracking echocardiographic study. Echocardiography. 2016;33(8):1144–1155. doi: 10.1111/echo.13225
- Hammerstingl C, Schueler R, Wiesen M, et al. Effects of untreated obstructive sleep apnea on left and right ventricular myocardial function. Int J Cardiol. 2012;155(3):465–469. doi: 10.1016/j.ijcard.2011.12.026
- Macek P, Poręba M, Stachurska A, et al. Obstructive sleep apnea and sleep structure assessed in polysomnography and right ventricular strain parameters. Brain Sci. 2022;12(3):331. doi: 10.3390/brainsci12030331 EDN: BHBFBH
- Li J, Lu C, Wang W, et al. Assessment of right atrium dysfunction in patients with obstructive sleep apnea syndrome using velocity vector imaging. Cardiovasc Ultrasound. 2018;16(1):32. doi: 10.1186/s12947-018-0150-y EDN: FUUNBE
- Friedman SE, Andrus BW. Obesity and pulmonary hypertension: a review of pathophysiologic mechanisms. J Obes. 2012;2012:505274. doi: 10.1155/2012/505274
- Adir Y, Humbert M, Chaouat A. Sleep-related breathing disorders and pulmonary hypertension. Eur Respir J. 2021;57(1):2002258. doi: 10.1183/13993003.02258-2020 EDN: WBPHCX
- Yeghiazarians Y, Jneid H, Tietjens JR, et al. Obstructive sleep apnea and cardiovascular disease: a scientific statement from the american heart association. Circulation. 2021;144(3):e56–e67. doi: 10.1161/CIR.0000000000000988 EDN: MSKFKK
- Battaglia E, Compalati E, Mapelli L, et al. Pulmonary hypertension in patients affected by sleep-related breathing disorders: up to date from the literature. Minerva Med. 2024;115(6):671–688. doi: 10.23736/S0026-4806.24.09112-2 EDN: CONHLU
- Minai OA, Ricaurte B, Kaw R, et al. Frequency and impact of pulmonary hypertension in patients with obstructive sleep apnea syndrome. Am J Cardiol. 2009;104(9):1300–1306. doi: 10.1016/j.amjcard.2009.06.048
- Yan L, Zhao Z, Zhao Q, et al. The clinical characteristics of patients with pulmonary hypertension combined with obstructive sleep apnoea. BMC Pulm Med. 2021;21(1):378. doi: 10.1186/s12890-021-01755-5 EDN: ONLTCM
- Akbari A, Raji H, Islampanah M, et al. Sleep apnea in pulmonary hypertension patients: a systematic review and meta-analysis sleep disorders and pulmonary hypertension. Sleep Breath. 2025;29(1):120. doi: 10.1007/s11325-025-03280-9 EDN: BMIFPS
- Sajkov D, Wang T, Saunders NA, et al. Continuous positive airway pressure treatment improves pulmonary hemodynamics in patients with obstructive sleep apnea. Am J Respir Crit Care Med. 2002;165(2):152–158. doi: 10.1164/ajrccm.165.2.2010092
- Arias MA, García-Río F, Alonso-Fernández A, et al. Pulmonary hypertension in obstructive sleep apnoea: effects of continuous positive airway pressure: a randomized, controlled cross-over study. Eur Heart J. 2006;27(9):1106–1113. doi: 10.1093/eurheartj/ehi807 EDN: INRRWR
- Imran TF, Ghazipura M, Liu S, et al. Effect of continuous positive airway pressure treatment on pulmonary artery pressure in patients with isolated obstructive sleep apnea: a meta-analysis. Heart Fail Rev. 2016;21(5):591–598. doi: 10.1007/s10741-016-9548-5 EDN: GZEURU
Supplementary files