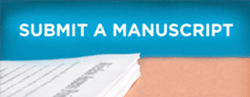Role of longitudinal measurement of autoantibodies in predicting type 1 diabetes mellitus in children
- Authors: Korneva K.G.1, Chichevatov D.A.2, Strongin L.G.1, Zagainov V.E.1
-
Affiliations:
- Privolzhsky Research Medical University
- Penza State University
- Issue: Vol 31, No 5 (2025)
- Pages: 458-469
- Section: Original Research Articles
- Submitted: 30.06.2025
- Accepted: 13.08.2025
- Published: 10.10.2025
- URL: https://medjrf.com/0869-2106/article/view/686278
- DOI: https://doi.org/10.17816/medjrf686278
- EDN: https://elibrary.ru/VEEOXM
- ID: 686278
Cite item
Abstract
BACKGROUND: Prediction of type 1 diabetes mellitus (T1DM) at the preclinical stage allows for timely initiation of preventive therapeutic interventions and may prevent disease progression.
AIM: This work aimed to evaluate the potential of predicting T1DM based on autoantibody concentrations and their changes.
METHODS: A prospective longitudinal cohort study was conducted in three regional children’s hospitals: in Nizhny Novgorod, the Chuvash Republic, and the Republic of Mari El. The study included children aged 0–18 years hospitalized with newly diagnosed T1DM between 2017 and 2020, as well as their healthy siblings (enrolled concurrently). Data from 517 participants were analyzed: 314 children with newly diagnosed T1DM and 203 healthy siblings. Regression modeling was applied for the analysis of repeated measurements. Antibodies to glutamate decarboxylase, tyrosine phosphatase, and zinc transporter 8 were determined.
RESULTS: Among healthy siblings, a high risk of developing T1DM was associated with: elevated baseline concentrations of all three antibodies (57.5–92 times higher than reference values on average); a significant and rapid decrease in glutamate decarboxylase and tyrosine phosphatase concentrations −23.29 and −43.3 IU/mL per month, respectively; and a slight and very slow decrease in zinc transporter 8 concentration −5.3 U/mL per month.
CONCLUSION: Modeling the longitudinal profiles of glutamate decarboxylase, tyrosine phosphatase, and zinc transporter 8 may serve as the basis for the development of more advanced and precise diagnostic systems. This approach appears promising but requires further investigation.
Full Text
Обоснование
В последнее время подходы к лечению сахарного диабета 1-го типа (СД1) претерпели изменения: от заместительной гормональной терапии к модифицирующим течение заболевания стратегиям. Генетическая предрасположенность к СД1 в сочетании с факторами внешней среды инициирует аутоиммунное разрушение островковых клеток, маркером которого служат специфические сывороточные аутоантитела к различным белкам β-клеток. С момента выявления первого аутоантитела в 1974 году исследования аутоиммунных нарушений, лежащих в основе СД1, продолжаются. В настоящее время хорошо известны пять аутоантител, являющихся надёжными индикаторами раннего развития заболевания. К ним относятся аутоантитела к островковым клеткам, инсулину, глутаматдекарбоксилазе (glutamic acid decarboxylase antibody, GADA), тирозинфосфатазе (tyrosine phosphatase antigen-2 antibody, IA-2A) и транспортёру цинка 8 (Zinc transporter-8 autoantibody, ZnT8A) [1]. Как правило, аутоантитела появляются за несколько месяцев или лет до манифестации заболевания и сохраняются вплоть до его наступления.
Известно, что течение СД1 включает последовательные стадии [2]. Первая стадия характеризуется началом аутоиммунной агрессии против β-клеток, что сопровождается повышением концентрации как минимум двух аутоантител на фоне нормогликемии. Первыми появляются GADA и аутоантитела к инсулину. Пик сероконверсии аутоантител к инсулину наблюдается к возрасту двух лет, тогда как пик GADA приходится на возрастной диапазон 3–5 лет. IA-2A и ZnT8A регистрируются на более позднем этапе [3]. Вторая стадия СД1 начинается с дисгликемии, которая может быть выявлена при проведении перорального глюкозотолерантного теста. Третья стадия характеризуется классическими симптомами СД1. Риск развития заболевания в течение 5 и 10 лет на второй и третьей стадиях оценивается как 44 и 70% соответственно, а пожизненный риск составляет 50 и 100% соответственно [4, 5].
Эффективная терапия, направленная на предотвращение или замедление прогрессирования СД1, возможна только на первой или второй стадиях заболевания, когда сохраняется достаточный остаточный пул интактных β-клеток. Ожидается, что новые современные методы лечения, способные влиять на течение диабета, будут более результативными. С момента регистрации моноклонального антитела теплизумаба1 возможности иммуномодулирующей терапии стали более очевидными [6]. По этим причинам СД1 следует диагностировать на самых ранних доклинических стадиях, когда профилактическое лечение может существенно улучшить прогноз и качество жизни, а также предотвратить развитие отдалённых осложнений.
Цель
Оценить возможность прогнозирования развития СД1 на основании исходных концентраций аутоантител и их изменений во времени.
Методы
Дизайн исследования
Проспективное продольное когортное исследование было проведено в трёх регионах: Нижний Новгород, Чувашская Республика и Республика Марий Эл. В исследование включены пациенты в возрасте 0–18 лет, госпитализированные со впервые выявленным СД1. 166 участников со впервые выявленным СД1 имели одного и более здоровых сибса.
Условия проведения
Исследование осуществляли в трёх областных детских больницах: Нижнего Новгорода, Чувашской Республики и Республики Марий Эл.
Продолжительность исследования
Набор участников продолжался с ноября 2017 по февраль 2020. При проведении контрольного среза в феврале 2025 года медиана времени наблюдения составила 67,1 [64, 6–69, 6] мес. (5,6 года).
Критерии соответствия
Критерии включения:
- для пациентов с СД1 — возрастной диапазон от 0 до 17 лет; диагноз, установленный на основании исследования гликемического профиля и концентрации гликированного гемоглобина;
- для здоровых сибсов — наличие брата или сестры с СД1, потомков одних родителей; концентрация глюкозы крови и гликированного гемоглобина ниже пороговых значений, характерных для СД1.
Критерии исключения: для пациентов с СД1 — присутствие диабета другого типа.
Подбор участников в группы
В исследование было включено 517 участников: у 314 человек диагностирован СД1, 203 ребёнка были здоровыми сибсами. Возраст участников варьировал от 3 до 341,4 мес., средний возраст составил 109,4±64,3 мес. 94,6% обследованных были младше 18 лет, а 28 человек (5,4%) — в возрасте 18 лет и старше (они были включены в исследование в качестве взрослых здоровых сибсов). В исследуемой когорте девочки составили 42,0% (n=217), мальчики — 58,0% (n=300). Бóльшая часть участников проживала в Нижегородской области (77,4%, n=400); 92 человека (17,8%) и 25 человек (4,8%) являлись жителями Чувашской Республики и Республики Марий Эл соответственно. В течение наблюдения у 6 из 203 изначально здоровых сибсов (3%) был выявлен СД1.
Всех участников исследования распределили на 3 группы:
- группа 1 (n=314) состояла из пациентов, у которых на момент включения был впервые установлен диагноз СД1;
- группа 2 (n=197) состояла из одновременно набранных здоровых сибсов, не заболевших СД1 к концу периода наблюдения;
- группа 3 (n=6) состояла из сибсов, также включённых на начальном этапе, у которых СД1 развился в процессе наблюдения.
Целевые показатели исследования
Основные показатели исследования. Учитывая наличие детей в возрасте до 1 года, последний измерялся в месяцах. Время без заболевания регистрировали стандартным образом с момента рождения. Период наблюдения составил от 3,4 до 400,1 мес. Медиана времени наблюдения — 213 мес. У пациентов с СД1 повторные измерения аутоантител проводили каждые 3 мес. в течение 1 года. У здоровых сибсов концентрации аутоантител исследовали ежегодно до 24 мес., начиная с 0 мес. (инициальный уровень — момент включения участника в исследование). Поскольку имели место повторные измерения, первичные данные были даны в продольном (person-period) формате, содержащем переменную PatientID (уникальный номер участника).
Зависимые от времени концентрации аутоантител были ключевыми переменными отклика. Оценивали, как инициальные концентрации аутоантител зависели от принадлежности участника к конкретной исследуемой группе. Таким образом, определённые выше группы рассматривали в качестве уровней номинального предиктора. Исследовали также динамику концентраций аутоантител, а время повторных измерений выступало в роли предиктора в различных моделях.
Методы измерения целевых показателей. Образцы крови у госпитализированных пациентов забирали в течение 1–2 дней с момента поступления, в то время как у здоровых сибсов — в течение 1–2 нед. амбулаторно. В дальнейшем в группе больных СД1 тестирование проводили в течение 12 мес. с интервалом 3 мес., в группе здоровых сибсов — ежегодно. Соблюдая необходимые требования, образцы крови из клиник доставляли в централизованную независимую лабораторию, сертифицированную в соответствии с европейскими стандартами. Концентрации аутоантител в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа с использованием микропланшетного спектрофотометра Sunrise (Tecan, Австрия). Применяли следующие коммерческие наборы: anti-GAD/IA2 Pool ELISA kit (EUROIMMUN Medizinische Labordiagnostika AG, Германия), Medizym anti-IA2 kit и Medizym anti-ZnT8 kit (Medipan, Германия). Согласно инструкциям производителей, чувствительность и специфичность методов составили соответственно: GADA — 96 и 98%; IA-2A — 75 и 98%; ZnT8A — 68 и 99% (Diabetes Antibody Standardization Program, 2005 и 2010). Пороговые значения для положительных результатов были установлены в соответствии с рекомендациями производителей: GADA ≥4 МЕ/мл; IA-2A ≥10 МЕ/мл; ZnT8A ≥15 Ед./мл.
Статистический анализ
Все статистические вычисления проводили с использованием свободно распространяемых языка программирования R (v. 4.4.1) и интегрированной среды разработчика RStudio 2024.09.1+394. Описательные статистики и значения теста Краскела–Уоллиса вычисляли с применением базовых встроенных библиотек RSudio. Значения p <0,05 рассматривали как значимые при проверке статистических гипотез. Главные зависимые переменные (концентрации аутоантител) моделировали посредством обобщённой линейной модели. Мы применяли байесовскую математику, реализованную в программном пакете brms (Bayesian Regression Models using ‘Stan’, v. 2.21.0, https://github.com/paul-buerkner/brms). Поскольку концентрации аутоантител могли принимать только положительные значения, гамма-распределение с логарифмической линк-функцией было выбрано в качестве функции плотности вероятности зависимых переменных. Поскольку регрессионные модели предполагали индивидуальную вариацию (random-effects models), они были многоуровневые с индивидуальной константой (intercept). Байесовский подход предполагал интервальную оценку вариации. Дополнительно мы использовали пакеты bayestestR (https://easystats.github.io/bayestestR/) и ggplot2 (https://ggplot2.tidyverse.org, https://github.com/tidyverse/ggplot2). Все графики были созданы с использованием последнего. Строки данных, содержащие пропущенные значения, автоматически исключались в процессе проведения вычислений.
Результаты
Характеристика пациентов представлена в табл. 1.
Таблица 1. Характеристика участников
Характеристики | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 |
Участники, n | 314 | 197 | 6 |
Пол, мужчины, n/% | 182/58 | 114/58 | 4/66,7 |
Возраст, мес., Me [Q1; Q3] | 103 [52; 181] | ||
Возрастной диапазон, мес. | 3–251 | 6–341 | 16–184 |
Различия инициальных концентраций в группах 1 и 3 по сравнению с группой 2 были статистически значимы — тест Краскела–Уоллиса: χ2=166,04; df=1; p <0,0001 для IA-2A; χ2=228,01; df=1; p <0,0001 для GADA; и χ2=192,73; df=1; p <0,0001 для ZnT8A (табл. 2).
Таблица 2. Концентрация аутоантител GADA, ZnT8A, IA-2A в разные месяцы исследования, median МЕ/мл или Ед./мл (для ZnT8A) (количество пропущенных значений)
Месяц | Группа 1 | Группа 2 | Группа 3 | |||||||||
GADA | ZnT8A | IA-2A | n | GADA | ZnT8A | IA-2A | n | GADA | ZnT8A | IA-2A | n | |
0-й (инициальный) | 134,6 | 216,6 | 191,2 | 0 | 1,4 | 5 | 5,8 | 0 | 437 | 188 | 415 | 0 |
3-й | 84,3 | 79,7 | 294,35 | 254 | 3,8 | 2,6 | 2,7 | 195 | NA | NA | NA | 6 |
6-й | 139,8 | 191,3 | 262,5 | 260 | NA | NA | NA | 197 | 345,4 | 601,6 | 498,9 | 3 |
9-й | 135,2 | 81 | 354,3 | 282 | NA | NA | NA | 197 | 32,6 | 168,4 | 143,7 | 4 |
12-й | 59,6 | 3,7 | 48,3 | 266 | 1,2 | 1,4 | 1,4 | 138 | 70,5 | 240,0 | 202,3 | 4 |
24-й | NA | NA | NA | 313 | 40,1 | 0,22 | 0,46 | 191 | NA | NA | NA | 6 |
Примечание: NA — не анализировались. Медиана не вычислена ввиду большого количества пропущенных значений; n — количество пропущенных значений. | ||||||||||||
Распределение значений инициальных концентраций аутоантител представлено на рис. 1. Гистограммы демонстрируют различные распределения в группах. В группе 2 это распределение было ближе к симметричному, в то время как в группах 1 и 3 оно явно асимметричное и иногда мультимодальное.
Рис. 1. Гистограммы инициальных концентраций трёх циркулирующих антител: против глутаматдекарбоксилазы (GADA), тирозинфосфатазы (IA-2A) и транспортёра цинка 8 (ZnT8A). Ось Х — концентрации аутоантител, МЕ/мл или Ед./мл (для ZnT8A) — ограничена значениями, соответствующими квантилю Q85. Левые графики представляют здоровых сибсов (группа 2), правые графики — пациентов с сахарным диабетом 1 типа (группы 1 и 3).
Моделирование инициальных концентраций аутоантител
Построены 3 регрессионные модели. Инициальные уровни аутоантител выступали в качестве зависимых переменных, а исследуемая группа была единственным предиктором. Результаты вычислений для моделей 1–3 представлены в табл. 3.
Таблица 3. Фрагменты результирующих таблиц (только коэффициенты регрессии), время измерялось в месяцах
Семейство функций: gamma | ||||
Линк-функция: μ = “log”, shape = “identity” | ||||
Кодирование уровней фактора: “sum” | ||||
Аутоантитела | Оценка | Ошибка | 95% ДИ (нижняя граница) | 95% ДИ (верхняя граница) |
Модели 1–3. Формула: AАТ ~ 1 + Группа + (1 | PatientID) | ||||
GADA_Константа | 4,14 | 0,27 | 3,62 | 4,67 |
GADA_β_Группа_1 | 0,97 | 0,27 | 0,45 | 1,48 |
GADA_β_Группа_3 | 1,77 | 0,52 | 0,77 | 2,77 |
ZnT8A_Константа | 4,67 | 0,26 | 4,18 | 5,21 |
ZnT8A_β_Группа_1 | 1,14 | 0,25 | 0,62 | 1,62 |
ZnT8A_β_Группа_3 | 1,46 | 0,49 | 0,57 | 2,49 |
IA-2A_Константа | 4,8 | 0,25 | 4,31 | 5,32 |
IA-2A_β_Группа_1 | 0,9 | 0,26 | 0,36 | 1,38 |
IA-2A_β_Группа_3 | 1,4 | 0,5 | 0,81 | 2,76 |
Модели 4–6 (группа 1). Формула: AAТ ~ 1 + Время + (1| PatientID) | ||||
GADA_Константа | 5,37 | 0,09 | 5,19 | 5,55 |
GADA_β_Время | −0,02 | 0,02 | −0,06 | 0,01 |
ZnT8A_Константа | 5,37 | 0,14 | 5,09 | 5,66 |
ZnT8A_β_Время | −0,08 | 0,02 | −0,12 | −0,04 |
IA-2A_Константа | 5,41 | 0,15 | 5,13 | 5,7 |
IA-2A_β_Время | −0,03 | 0,02 | −0,07 | 0,02 |
Модели 7–9 (группа 2) . Формула: AAТ ~ 1 + Время + (1| PatientID) | ||||
GADA_Константа | 1,70 | 0,18 | 1,35 | 2,08 |
GADA_β_Время | 0,03 | 0,02 | −0,01 | 0,08 |
ZnT8A_Константа | 2,06 | 0,13 | 1,83 | 2,31 |
ZnT8A_β_Время | −0,04 | 0,02 | −0,08 | 0 |
IA-2A_Константа | 2,25 | 0,14 | 1,99 | 2,53 |
IA-2A_β_Время | −0,01 | 0,02 | −0,05 | 0,04 |
Модели 10–12 (группа 3). Формула: AAТ ~ 1 + Время + (1| PatientID) | ||||
GADA_Константа | 5,41 | 0,93 | 3,58 | 7,28 |
GADA_β_Время | −0,11 | 0,04 | −0,2 | −0,02 |
ZnT8A_Константа | 5,19 | 1,05 | 3,1 | 7,29 |
ZnT8A_β_Время | –0,03 | 0,07 | −0,19 | 0,1 |
IA-2A_Константа | 6,03 | 0,88 | 4,34 | 7,86 |
IA-2A_β_Время | –0,11 | 0,07 | −0,25 | 0,03 |
Примечание: AАТ — аутоантитела, ДИ — доверительный интервал. | ||||
В соответствии с кодированием факторного контраста, применяя уравнения регрессии, мы вычислили инициальные концентрации аутоантител в группах (табл. 4).
Таблица 4. Инициальные концентрации аутоантител по группам, МЕ/мл или Ед./мл (для ZnT8A)
Аутоантитела | Оценка | Ошибка | 95% ДИ (нижняя граница) | 95% ДИ (верхняя граница) |
GADA | ||||
Константа | 62,8 | 1,31 | 37,48 | 107,22 |
Группа 1 | 166,36 | 1,13 | 131,85 | 209,74 |
Группа 2 | 4,04 | 1,15 | 3,04 | 5,35 |
Группа 3 | 368,43 | 2,17 | 85,44 | 1710,72 |
ZnT8A | ||||
Константа | 107,12 | 1,29 | 65,67 | 183,94 |
Группа 1 | 335,5 | 1,14 | 258,4 | 431,17 |
Группа 2 | 7,96 | 1,13 | 6,25 | 10,17 |
Группа 3 | 460,06 | 2,08 | 119,63 | 2176,51 |
IA-2A | ||||
Константа | 121,51 | 1,29 | 74,77 | 204,68 |
Группа 1 | 299,03 | 1,13 | 235,68 | 376,2 |
Группа 2 | 8,68 | 1,13 | 6,78 | 11,19 |
Группа 3 | 690,98 | 2,1 | 170,93 | 3235,4 |
Примечание: ДИ — доверительный интервал. | ||||
Эта информация представлена также на рис. 2.
Рис. 2. Инициальные концентрации аутоантител против глутаматдекарбоксилазы (GADA), тирозинфосфатазы (IA-2A) и транспортёра цинка 8 (ZnT8A). По оси Y указаны единицы измерения концентраций: МЕ/мл или Ед./мл (для ZnT8A).
И табл. 4, и рис. 2 демонстрируют идентичную закономерность в инициальных концентрациях трёх аутоантител. Максимальные центральные характеристики отмечены в группе 3 (got_sick). Поскольку в этой группе было только 6 человек, соответствующая дисперсия ожидаемо была наибольшей. Средние инициальные значения концентраций аутоантител в группе 1 (DM) и группе 3 были сравнимы. Средние инициальные значения концентраций аутоантител в группе 2 (no_DM) были значимо ниже по сравнению с другими группами.
Динамика концентраций аутоантител
Применена регрессионная модель, в которой время повторных измерений концентраций аутоантител играло роль предиктора, а концентрация аутоантител была интервальной отвечающей переменной. Результаты представлены в табл. 3 и на рис. 3.
Рис. 3. Изменения концентраций аутоантител против глутаматдекарбоксилазы (GADA), тирозинфосфатазы (IA-2A) и транспортёра цинка 8 (ZnT8A) в зависимости от времени в исследуемых группах. Ось Y — концентрация (МЕ/мл или Ед./мл для ZnT8A).
Динамика концентраций аутоантител в группе 1. В группе 1 время имело негативный эффект, во всех трёх моделях концентрации аутоантител уменьшались во времени. Эффект был статистически значимым только для ZnT8A. Тем не менее можно говорить о почти значимом или существенном размере эффекта в отношении других аутоантител, поскольку вероятность отрицательных коэффициентов регрессии (вероятность направленности, the probability of direction, PD) была 92,85% для GADA и 87,90% для IA-2A. Визуально маргинальный эффект времени для трёх аутоантител в группе 1 показан на рис. 3 (верхний ряд). Рассчитанная средняя скорость убывания концентрации аутоантител в 1-й и 36-й месяцы наблюдения для GADA составила –4,25 и –2,11 МЕ/мл в месяц, для ZnT8A –6,52 и –1 Ед./мл в месяц, для IA-2A –6,61 и –2,31 МЕ/мл в месяц.
Динамика концентраций аутоантител в группе 2. В группе 2 динамика концентраций аутоантител была разнонаправленной. Уровень GADA возрастал со временем. Этот эффект был устойчивым, но не значимым (вероятность положительных значений коэффициента регрессии высокая, PD=92,0%). Концентрация ZnT8A снижалась значимо (PD=96,4% для отрицательных значений коэффициента регрессии). Наконец, концентрация IA-2A не изменялась во времени (вероятность положительных и отрицательных значений коэффициента регрессии была почти равной, PD=65,05%). Визуально маргинальный эффект времени для трёх аутоантител в группе 2 показан на рис. 3 (средний ряд).
Рассчитанная средняя скорость изменения концентрации аутоантител в 1-й и 36-й месяцы наблюдения для GADA составила соответственно 0,17 и 0,48 МЕ/мл в месяц, для ZnT8A –0,31 и –0,08 Ед./мл в месяц, для IA-2A –0,09 и –0,07 мл в месяц.
Динамика концентраций аутоантител в группе 3. В этой группе эффект времени был отличен от групп 1 и 2. Концентрации GADA и IA-2A снижались быстро. Для GADA влияние времени было статистически значимым. Эффект IA-2A был отчётливый, отрицательный и практически значимый с высокой вероятностью (PD=94,6% для коэффициента регрессии). В противоположность им эффект ZnT8A оставался стабильным в течение времени, размер его был небольшим и вероятность его противоположных значений была высокой (PD=69,35%). Визуально маргинальный эффект времени для трёх аутоантител в группе 3 показан на рис. 3 (нижний ряд). Несмотря на большую дисперсию, основные тренды динамики концентраций аутоантител чётко видны на рис. 3.
Рассчитанная средняя скорость изменения концентрации аутоантител в 1-й и 36-й месяцы наблюдения для GADA составила соответственно −23,29 и −0,5 МЕ/мл в месяц, для ZnT8A −5,3 и −1,86 Ед./мл в месяц, для IA-2A −43,3 и −0,92 МЕ/мл в месяц.
Обсуждение
Резюме основного результата исследования
Пациенты, у которых СД1 возник в период наблюдения (группа 3), представляют наибольший интерес. Тем не менее, принимая во внимание размер когорты (517 участников) и длительность периода наблюдения, ожидалось небольшое количество подобных пациентов. Зарегистрировано только 6 детей, у которых СД1 возник до конца времени исследования. Это слишком низкая частота, чтобы быстро сформировать соответствующую исследуемую группу. Таким образом, было проблематично построить высококачественную модель, используя только собственные данные. Тем не менее на основе языка R было разработано программное приложение (shiny application), которое вычисляет прогнозируемые значения концентраций, используя модели настоящего исследования. Оно находится в свободном доступе https://dach-md.shinyapps.io/DMPs/. Это пилотная программа, требующая дальнейшей разработки. Мы полагаем, что подобный подход, использующий внешние данные, может помочь в оценке обобщённости моделей.
Обсуждение основного результата исследования
GADA, ZnT8A, IA-2A являются классической триадой аутоантител, используемых в диагностике СД1. В настоящем исследовании мы хотели бы обсудить подход, который скорее является пилотным, но с возможными перспективами разработки способа раннего прогнозирования СД1 у здоровых сибсов. Этот подход основан на измерении инициальных уровней аутоантител (в момент начала наблюдения) с последующим мониторингом динамики концентраций. Визуальный анализ исходных данных (см. рис. 1) показал, что законы распределения концентраций всех трёх антител сходны. В группе здоровых сибсов (группа 2) инициальные уровни аутоантител были сравнимы с референсными значениями и имели относительно симметричное распределение с ограниченной дисперсией. Статистические выбросы немногочисленные. Напротив, в группах 1 и 3, где диабет развился, инициальные значения были от нескольких раз до нескольких порядков выше, чем в группе 2. Распределения концентраций были асимметричные, имели достаточно длинный «правый хвост» со множеством экстремальных значений.
Этот феномен был подтверждён при моделировании инициальных концентраций (см. табл. 3 и рис. 2). В группе 2 доверительные интервалы средних оценок были как минимум на порядок ниже нижних границ аналогичных доверительных интервалов в группах 1 и 3. Таким образом, модели абсолютно чётко разграничивали здоровых участников исследования и тех, у которых заболевание реализовалось. Следовательно, инициальные концентрации аутоантител могут рассматриваться как надёжные предикторы: они сразу детерминируют группу низкого риска СД1. Несмотря на то, что любое превышение референсных концентраций аутоантител означает положительный тест, некоторые исследования показали зависимость риска СД1 от титра аутоантител и их циркулирующего пула. Наивысший риск ассоциировался с присутствием двух и более аутоантител, а высокие титры указывали на интенсивность текущей аутоиммунной агрессии, сочетаясь с быстрым прогрессированием болезни [7]. Действительно, риск СД1 прямо зависит от количества положительных аутоантител (уровни выше референсных значений). 10-летний риск развития СД1 составляет 70% у детей с двумя и более положительными аутоантителами, 14,5% — при наличии одного аутоантитела и только 0,4% — при отсутствии положительных аутоантител [4].
В настоящем исследовании был применён несколько иной подход. Выполнено моделирование зависимости концентраций аутоантител и их динамики от исследуемой группы и времени вместо моделирования риска СД1 в зависимости от частоты положительных аутоантител. Подобный анализ мог бы обнаружить характерные для каждой группы зависимые от времени отличительные закономерности изменения концентраций. В настоящем исследовании чрезвычайно высокие инициальные концентрации всех трёх аутоантител были продемонстрированы в группе 3 (в 57,5–92 раза выше по сравнению с референсными значениями в группе 2, см. табл. 4). Эти результаты уже могут служить основанием для расчёта пороговых значений, дискриминирующих группы высокого и низкого риска. Тем не менее специфическая динамика разных аутоантител в разных группах могла служить дополнительным подтверждением наличия высокого или низкого риска. В этом контексте анализ ROC-кривых выглядит как менее гибкий и надёжный инструмент.
Динамика концентраций аутоантител была специфической в исследуемых группах. В группе 1 концентрации GADA и IA-2A снижались плавно и статистически незначимо, хотя вероятность отрицательных значений коэффициентов регрессии была явно выше. В этой группе концентрация ZnT8A уменьшалась довольно быстро и значимо.
В группе 2 концентрация GADA возрастала медленно, концентрация IA-2A была почти постоянной, а концентрация ZnT8A уменьшалась устойчиво и значимо. Незначимое, но очевидное повышение концентрации GADA в этой группе следует рассматривать как неясный негативный феномен. Концентрация повышалась и была несколько выше референсных значений. Тем не менее в этой группе заболевание ни у кого не развилось. Этот эффект не стоит полностью игнорировать, он требует дальнейшего исследования. В группе 3 динамика концентраций была прямо противоположной группам 1 и 2. Концентрации GADA и IA-2A снижались устойчиво и относительно быстро, в то время как концентрация ZnT8A оставалась практически постоянной с небольшой тенденцией к снижению.
Комбинации различных аутоантител важны для стратификации риска прогрессии СД1. В частности, сочетание GADA и ZnT8A имеет минимальный относительный риск, в то время как комбинация IA-2A и ZnT8A предполагает наивысший относительный риск. Присутствие третьего и четвёртого аутоантитела незначительно увеличивает риск [8]. В недавно опубликованных исследованиях авторы сравнивали концентрации аутоантител у пациентов с впервые выявленным и длительно текущим СД1. Частота персистенции GADA оставалась стабильной на уровне 80% против 83%, в то время как частота IA-2A и ZnT8A уменьшалась с 66 до 27% и с 63 до 27% соответственно. Возможно, IA-2A и ZnT8A играют большую роль в прогнозировании СД1, являясь маркерами существующей аутоиммунной агрессии против β-клеток, тогда как GADA может персистировать длительно, свидетельствуя о продолжающейся медленной деструкции β-клеток у детей. Кроме того, GADA часто определяется у взрослых, страдающих СД1 [9, 10]. Нельзя исключить, что гетерогенность профилей аутоантител может ассоциироваться с широким спектром аутоиммунных процессов со сходными иммунологическими чертами и маркерами, например с рассеянным склерозом [11].
Таким образом, моделирование инициальных концентраций трёх аутоантител и их динамических вариаций позволяет формировать своего рода «серологический портрет» каждой группы. Всестороннее тестирование может идентифицировать высокий риск СД1 у здоровых сибсов. Этот риск связан с 1) повышенной инициальной концентрацией всех трёх аутоантител; 2) значимым и быстрым снижением концентраций GADA и IA-2A; 3) незначимым и очень медленным снижением концентрации ZnT8A. Повторная оценка концентраций нескольких аутоантител позволяет более точно прогнозировать риск, учитывая взаимосвязи между количественными показателями и их динамикой. В целом под влиянием возраста, пола, генетических и средовых факторов естественное течение доклинического СД1 может значительно варьировать, формируя неоднозначные профили аутоантител, что необходимо учитывать [12].
Ограничения исследования
Настоящее исследование имеет потенциальные ограничения. Во-первых, индивидуальные характеристики пациентов могли влиять на оценки параметров и дисперсию. Этот аспект был учтён и включён в регрессионные модели, которые были многоуровневыми. Межуровневые различия не показаны в табл. 3 ввиду высокой информационной насыщенности.
Другим очевидным и неизбежным ограничением является малая численность группы 3 (n=6). Истинное количество здоровых участников, заболевающих во время наблюдения, остаётся неизвестным и непрогнозируемым. Несмотря на длительный период наблюдения (медиана 17,75 года), только 6 из 203 сибсов (3%) заболели СД1. Таким образом, имели место ограничения, связанные со временем наблюдения. В байесовских моделях мы использовали слабо информативные априорные распределения, центрированные в нуле. Это позволило получить центральные тенденции оценок параметров в группе 3. Несмотря на то, что байесовский математический подход более устойчив к феномену малых выборок, вариация осталась широкой. Для её сокращения мы могли использовать информативные априорные распределения в своих моделях, но, к сожалению, не обнаружили в научных статьях аналогичных значений, позволяющих рассчитать эти априорные распределения. Тем не менее инициальные концентрации аутоантител в группе 3 были настолько высоки, что различия между группами 2 и 3 стали очевидными, несмотря на большую дисперсию.
Множественные пропущенные значения были третьим ограничением, способным повлиять на оценки параметров. Результат такого влияния — зависящее от времени увеличение вариации (см. рис. 3). Пропуски в данных возникли вследствие недостаточной приверженности родителей и первоначального решения проводить ежегодное тестирование аутоантител у здоровых сибсов. Мы не применяли методы восстановления пропущенных данных и проводили анализ только на полных наблюдениях, поскольку такой подход, на наш взгляд, более адекватно отражает реальную клиническую картину.
Это было дополнительным поводом для интервальной оценки параметров и применения показателя вероятности направления PD для суждения о размере эффекта. С учётом этих ограничений оценка размера эффекта и его направленность выглядели более преимущественными, чем значимость и ошибка 1-го рода. Мы полагаем, что многоцентровое исследование в рамках единого дизайна могло бы увеличить объём когорты, уменьшить количество пропущенных значений и улучшить оценки параметров.
Заключение
Иммуномодулирующая терапия СД1 на самых ранних стадиях представляется наиболее эффективной. Она требует точного прогнозирования заболевания, поскольку как недооценка, так и переоценка риска могут привести либо к задержке начала лечения, либо к его избыточности. В нашем исследовании были выявлены различные серологические профили у здоровых сибсов из групп высокого и низкого риска. Моделирование динамики GADA, IA-2A и ZnT8A может служить основой для разработки более сложных и точных диагностических систем. Такой подход представляется перспективным, однако требует дальнейшего изучения.
Дополнительная информация
Вклад авторов. Л.Г. Стронгин, В.Е. Загайнов — определение концепции, пересмотр и редактирование рукописи; К.Г. Корнева — определение концепции, разработка методологии, проведение исследования, написание черновика рукописи, пересмотр и редактирование рукописи; Д.А. Чичеватов — разработка методологии, валидация, визуализация, написание черновика рукописи, пересмотр и редактирование рукописи. Все авторы одобрили рукопись (версию для публикации), а также согласились нести ответственность за все аспекты настоящей работы, гарантируя надлежащее рассмотрение и решение вопросов, связанных с точностью и добросовестностью любой её части.
Этическая экспертиза. Проведение исследования одобрено локальным этическим комитетом Нижегородской областной детской клинической больницы (протокол № 30 от 06.10.2017). Все законные представители участников подписали форму добровольного информированного согласия до включения в исследование. Протокол исследования не публиковался.
Источники финансирования. Отсутствуют.
Раскрытие интересов. Авторы заявляют об отсутствии отношений, деятельности и интересов за последние три года, связанных с третьими лицами (коммерческими и некоммерческими), интересы которых могут быть затронуты содержанием статьи.
Оригинальность. При создании настоящей работы ранее опубликованные сведения (текст, иллюстрации, данные) не использовались.
Доступ к данным. Все данные, полученные в настоящей работе, доступны в статье.
Генеративный искусственный интеллект. При создании настоящей работы технологии генеративного искусственного интеллекта не использовались.
Рассмотрение и рецензирование. Настоящая работа подана в журнал в инициативном порядке и рассмотрена по обычной процедуре. В рецензировании участвовали член редакционной коллегии, два члена редакционного совета и научный редактор издания.
Additional information
Author contribution: L.G. Strongin, V.E. Zagainov: conceptualization, writing—review & editing; K.G. Korneva: conceptualization, methodology, investigation, writing—original draft, writing—review & editing; D.A. Chichevatov: methodology, validation, visualization, writing—original draft, writing—review & editing. All the authors approved the version of the manuscript to be published and agreed to be accountable for all aspects of the work, ensuring that questions related to the accuracy or integrity of any part of the work are appropriately investigated and resolved.
Ethics approval: The study was approved by the local Ethics Committee of the Nizhny Novgorod Regional Children’s Clinical Hospital (Minutes No. 30, dated October 06, 2017). All participants provided informed consent to participate in the study. The study protocol was not published.
Funding sources: No funding.
Disclosure of interests: The authors have no relationships, activities, or interests for the last three years related to for-profit or not-for-profit third parties whose interests may be affected by the content of the article.
Statement of originality: No previously published material (text, images, or data) was used in this article.
Data availability statement: All data obtained in the present study are available in the article.
Generative AI: No generative artificial intelligence technologies were used to prepare this article.
Provenance and peer-review: This paper was submitted unsolicited and reviewed following the standard procedure. The peer review process involved member of the Editorial Board, two members of the Editorial Council, and the in-house scientific editor.
1 Лекарственное средство не зарегистрировано в Российской Федерации.
About the authors
Kseniya G. Korneva
Privolzhsky Research Medical University
Author for correspondence.
Email: ksenkor@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-3293-4636
SPIN-code: 5945-3266
MD, Cand. Sci. (Medicine), Associate Professor
Russian Federation, 10/1 Minin and Pozharsky sq, Nizhny Novgorod, 603000Dmitry A. Chichevatov
Penza State University
Email: chichevatov69@mail.ru
ORCID iD: 0000-0001-6436-3386
SPIN-code: 9518-2170
MD, Dr. Sci. (Medicine)
Russian Federation, PenzaLeonid G. Strongin
Privolzhsky Research Medical University
Email: malstrong@mail.ru
ORCID iD: 0000-0003-2645-2729
SPIN-code: 9641-8130
MD, Dr. Sci. (Medicine), Professor
Russian Federation, Nizhny NovgorodVladimir E. Zagainov
Privolzhsky Research Medical University
Email: zagainov@mail.com
ORCID iD: 0000-0002-5769-0378
SPIN-code: 6477-0291
MD, Dr. Sci. (Medicine)
Russian Federation, Nizhny NovgorodReferences
- O'Donovan AJ, Gorelik S, Nally LM. Shifting the paradigm of type 1 diabetes: a narrative review of disease modifying therapies. Front Endocrinol (Lausanne). 2024;15:1477101. doi: 10.3389/fendo.2024.1477101 EDN: CGEGYK
- Insel RA, Dunne JL, Atkinson MA, et al. Staging presymptomatic type 1 diabetes: a scientific statement of JDRF, the Endocrine Society, and the American Diabetes Association. Diabetes Care. 2015;38(10):1964–1974. doi: 10.2337/dc15-1419
- Vehik K, Bonifacio E, Lernmark Å, et al. Hierarchical order of distinct autoantibody spreading and progression to type 1 diabetes in the TEDDY Study. Diabetes Care. 2020;43(9):2066–2073. doi: 10.2337/dc19-2547 EDN: AGERRL
- Ziegler AG, Rewers M, Simell O, et al. Seroconversion to multiple islet autoantibodies and risk of progression to diabetes in children. JAMA. 2013;309(23):2473–2479. doi: 10.1001/jama.2013.6285
- Krischer JP; Type 1 Diabetes TrialNet Study Group. The use of intermediate endpoints in the design of type 1 diabetes prevention trials. Diabetologia. 2013;56(9):1919–1924. doi: 10.1007/s00125-013-2960-7 EDN: XALQKS
- Quinn LM, Swaby R, Tatovic D, et al. What does the licensing of teplizumab mean for diabetes care? Diabetes Obes Metab. 2023;25(8):2051–2057. doi: 10.1111/dom.15071 EDN: WAVMOX
- Achenbach P, Warncke K, Reiter J, et al. Stratification of type 1 diabetes risk on the basis of islet autoantibody characteristics. Diabetes. 2004;53(2):384–392. doi: 10.2337/diabetes.53.2.384
- Podichetty JT, Lang P, O'Doherty IM, et al. Leveraging real-world data for EMA qualification of a model-based biomarker tool to optimize type-1 diabetes prevention studies. Clin Pharmacol Ther. 2022;111(5):1133–1141. doi: 10.1002/cpt.2559 EDN: LVIMAI
- Kawasaki E. Anti-islet autoantibodies in type 1 diabetes. Int J Mol Sci. 2023;24(12):10012. doi: 10.3390/ijms241210012 EDN: NVMPEG
- Endesfelder D, Zu Castell W, Bonifacio E, et al. Time-resolved autoantibody profiling facilitates stratification of preclinical type 1 diabetes in children. Diabetes. 2019;68(1):119–130. doi: 10.2337/db18-0594
- Pozzilli V, Grasso EA, Tomassini V. Similarities and differences between multiple sclerosis and type 1 diabetes. Diabetes Metab Res Rev. 2022;38(1):e3505. doi: 10.1002/dmrr.3505 EDN: CZOJES
- Bonifacio E, Achenbach P. Birth and coming of age of islet autoantibodies. Clin Exp Immunol. 2019;198(3):294–305. doi: 10.1111/cei.13360
Supplementary files